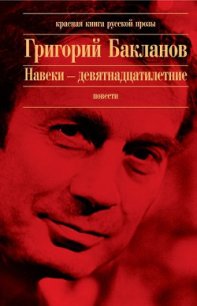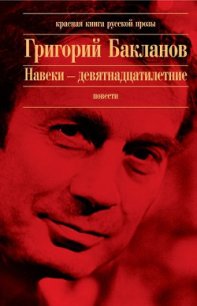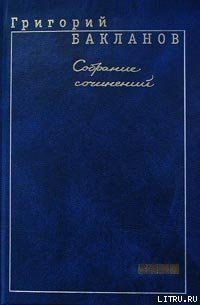Был месяц май (сборник) - Бакланов Григорий Яковлевич (читать книги без сокращений .txt) 📗
Короче говоря, он долго не мог заснуть, а когда наконец заснул, слышал во сне, как над головой пищит телефон. Была у него такая трубка с кнопочным набором, дрянь ужасная, изготовленная на Тайване, кто-то ему из Америки привез. Она не звонила, а пищала. И вот во сне слышал он этот писк и понимал, что ему это снится. Но вдруг вскочил. Было совершенно темно. Писк замер, и вновь запищал телефон, Евгений Степанович, мутный со сна, схватил трубку.
— Да!
И хриплый пьяный голос:
— Ротный, ну ты чего? Это заряжающий, Курашов. Договорились, а теперь ты ето самое?..
— Какой ротный, какой заряжающий? Скотина пьяная! И еще звонит среди ночи…
Вся ярость после ссоры взорвалась в нем. Воткнул трубку в держатель и лег. Пульс захлестывал. И выпадал. Он испугался, щупал у себя под горлом — так еще инфаркт схватишь. Ослепив себя на миг электричеством, глянул на часы. Четверть пятого. «Сволочь! — застонал Евгений Степанович. — Заряжающий… Зарядить бы тебя один раз и на всю жизнь!» Сердце колотилось от ненависти. А потом, обмякший, потный, сам чувствуя от себя неприятный, кислый запах, утирался углом пододеяльника. Сон был испорчен. Опять он долго ворочался в темноте. И едва задремал, над головой запищало. Евгений Степанович сразу же сел, он весь был, как взведенная мышеловка, готовая захлопнуться.
— Слушаю, — голос тихий, ровный. На этот раз он не положит трубку, он потребует выяснить, кто и откуда ночью звонит ему. Мысленно и статья уже созрела: телефонное хулиганство.
— Евгений Степанович, радио включи.
— Кто говорит?
— Панчихин говорит, Панчихин. Радио включи.
Только сейчас сквозь сумрак в комнате увидел он, что там, за плотными шторами, не сомкнутыми наверху, — утро. И этот ранний звонок… И «ты», как равному… Что-то произошло. Он включил свой японский приемничек, долго ловил Москву (настроено было на «Голос Америки»). Находясь в Москве, почти что в самом центре, он не знал, на какой волне Москва, не мог поймать: как-то не приходилось слушать Москву по радио, все телевизор заменил.
Несколько раз на длинных волнах врывалась одна и та же музыка, что-то знакомое. Чайковский? Бах? По правде сказать, Евгений Степанович не очень в этом разбирался, хотя по должности нередко присутствовал на концертах, сидел, шел за кулисы, если исполнитель по своей значимости того заслуживал, говорил прочувствованные слова.
Вдруг прорвался голос диктора: исполнялась Шестая симфония Петра Ильича Чайковского. С раннего утра — Шестая симфония?.. Такое не бывает случайно. Босиком, поддерживая на себе пижамные штаны с прорезью спереди (просил Елену убавить резинку, штаны спадают, опять забыла!), он тихо проследовал в столовую, включил телевизор, и пока там нагревалось, стоял перед экраном посреди комнаты, ждал. От пропотевшей и высохшей на теле пижамы чувствовался все тот же кислый запах. Раньше, чем появилось изображение, зазвучало опять что-то классическое, за душу тянущее, и вот из просветленного экрана, из серой мути четко возникла картинка: все в черном оркестранты и лицом к ним дирижер волнообразно взмахивает черными рукавами.
Евгений Степанович полез в программу передач, без очков, до рези в глазах читал. По программе сейчас утренняя гимнастика, а вместо нее одетые по-вечернему оркестранты с белыми лицами, как на похоронах, пилят на скрипках.
Елена, запахивая халат на ходу, застала его в странном виде: стоит босиком перед телевизором, одной рукой придерживает штаны на животе, в другой — приемник. И по приемнику, и по телевизору звучит одна и та же музыка.
— Что-то произошло, — сказал он, забыв о вчерашней ссоре. Но она не забыла.
— Ты окончательно того? — лицо ее, помятое во сне и еще не подкрашенное, было землисто-желтым. — Приемника тебе мало, с утра пораньше телевизор включил…
Только теперь он и заметил, что действительно в руке у него приемник.
— Ты не понимаешь, все беды у нас и в Европе случались под музыку. Когда не знают, как сообщить, дают классическую музыку. И когда война началась…
Крупней приблизили картинку, и среди оркестрантов Евгений Степанович узнал в лицо первую скрипку. С полгода назад музыкант этот умер, как раз недавно для его вдовы подписывал он бумаги: что-то там с пенсией, что-то требовалось еще. И вот он живой, подбородком прижал скрипку, водит смычком. И весь этот оркестр — бледные в черном — показался потусторонним. Наверное, в спешке пустили старую запись, что под рукой оказалось.
Опять звонили по телефону: у вас включено? Включите радио… И умолчание, страшная догадка. А радио передавало классическую музыку.
Первым сообщил ему шофер Виктор:
— В гараже говорят, Брежнев умер. Милиции нагнали, похоже, комитетчики переодетые с рациями стоят. Поехали, Евгений Степанович, по набережной, а то еще перекроют центр.
Принявший душ, побритый, расчесанный, во всем чистом, пахнущий мужским одеколоном, Евгений Степанович сидел в глубине машины, сзади справа, так что Виктор говорил, оборачиваясь к нему.
— Включи радио, — сказал он шоферу.
Но радио все так же надрывало душу классической музыкой. И милиции действительно было сегодня что-то многовато, за каждым фонарным столбом натыкано по милиционеру с рацией.
В Комитете подтвердилось окончательно: умер Брежнев. И первая мысль Евгения Степановича была, как стон жалобный: ну что бы ему еще месяца два, хотя бы месяц пожить! Уже подыскано место, уже доложено помощнику, и тот, как передали, сказал: «Добро!». Уже, выходя в свой кабинет, Евгений Степанович представлял, как в один прекрасный, теперь уже недалекий день носком ботинка отшвырнет он от себя этот протухлый Комитет во главе со старым носорогом, который пожизненно восседает на шестом этаже у себя за пустым столом, втянув голову в плечи, будто ему однажды стукнули по затылку, да так он и остался служить со втянутой в плечи головой. Сюда не назначают, сюда ссылают, еще Сталин под конец жизни грозился сослать Молотова министром культуры, дальше некуда, дальше только лагеря.
Со дня на день помощник должен был доложить Генеральному о Евгении Степановиче, поджидал подходящего момента. Это великая наука: подгадать беспроигрышно. Рассказывали, Большаков, тогдашний министр кинематографии, бывало, по три недели, по месяцу возил в багажнике коробки с фильмом, выжидал, подгадывал, а однажды без него показали Сталину, что было, да не под настроение попало, и такой разгром учинил, жизнь авторам перекалечил. Что их жизни — на всех, на всю кинематографию черной тенью легло.
В конце концов, мог помощник и сам решить, достаточно намекнуть кому следует, выдать пару телефонных звонков — всегда не ясно, от своего имени действует или от Самого? И чье последует недовольство… Рассказывали под величайшим секретом, что в последние месяцы жизни Суслова помощник решал, какие вопросы может задать посетитель, и сам же за Суслова готовил ответы на вопросы. Да что помощник! Международные телеграммы — вовсе уж тайна из тайн — прочитывал ему, больному, комендант, вот от кого другой раз судьбы зависят. В этот день в Комитете никто не работал, жили слухами. Изображалась видимость дела, внешне даже как бы еще больше сплотились вокруг пока неизвестно кого. Бумаги печатались, треск в машинном бюро стоял пулеметный, переносили бумаги из кабинета в кабинет, подписывали, возвращали, но мыслящая часть общества, сосредоточенного в этих стенах, гадала, ждала решающего сообщения: кто возглавит Комиссию по организации похорон? Ленина хоронил Сталин. Сталина хоронил Хрущев, он возглавлял Комиссию (то-то и порядку было!). Хрущева хоронил… Впрочем, тут все шло по другому разряду. Если Комиссию возглавит Черненко, бразды правления в его руках.
Еще до того, как объявили по радио, дошло от уха к уху, стало известно: Комиссию возглавил Андропов. И счетно-решающие устройства во многих головах, в том числе в голове Евгения Степановича, срочно стали просчитывать: как? кого? с какой стороны и в какой степени это коснется? Да разве так называемые простые люди, народ знает эти заботы, эту тревогу, от которой стареют раньше времени? Разве зависят непосредственно их судьбы от того, кто на чье место сядет?