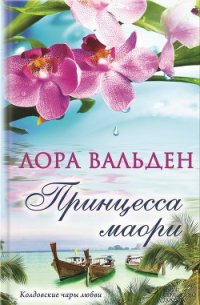Возвращение принцессы - Мареева Марина Евгеньевна (первая книга .TXT, .FB2) 📗
— Я с вами пойду.
— У нас с вами сегодня все по Гансу Христиану: и оловянный, и принцесса, и дворец, и даже тролль из табакерки. Трое троллей. Хорошо, мозги мне не вышибли. Малой кровью обошлось.
— Главный тролль у нас еще впереди, — вырвалось у Нины.
— Да? — Петр повернулся к ней. — Этот тот, который в больнице? — Он смотрел на нее внимательно, чуть прищурясь.
Все, что они еще не могли или не хотели произнести вслух, открыто, внятно, прямо, они говорили друг другу молча. Мучительный и счастливый язык взглядов, недомолвок, тайных подтекстов, главных слов, сказанных впроброс, между делом, — этот язык был освоен ими вполне. Впрочем, он несложен.
— Пошли в ваш травмпункт, — сказала Нина. — Он не в больнице. Он в Феодосии. Его уже выписали. Теперь — ваша очередь.
…Потом они ехали Чистопрудным. Все обошлось, оловянные ребра целы, на то они и оловянные, и кости целы, а к синякам и ссадинам нам не привыкать.
Петр вез Нину к ее дому, был вечер, морозный, зимний. Вдруг Петр присвистнул:
— Каток, Нина! Ура! Ну правильно, середина декабря…
Нина покосилась на него — он был совершенно счастлив, цыганские глаза его ликующе блестели.
— Вы, как мальчишка, этому радуетесь.
— А как же? А как иначе? Жизнь начиналась в середине декабря! В детстве. Главная жизнь — когда каток. Только!
Петр прижал машину к краю тротуара, выбрался сам, вытащил Нину — сумасшедший, ей-богу! Заводной, азартный, вот ведь и Дима такой же, но из Димы прет энергия дурная, недобрая, истерическая, вперехлест, со знаком минус, а у этого — в плюс, здоровая, добрая, веселая.
Дима — разрушитель, этот — созидатель.
Если бы все так просто было! Нет, все значительно сложнее.
— Куда? — кричала Нина, смеясь. — Петя, осторожней, вам же больно еще, вам вообще лежать сейчас нужно.
— Мне? Больно? — Петр вел ее вниз, на замерзший пруд, крепко держал за руку. — Мне замечательно.
Они спустились вниз по невысокому пологому склону. Впереди, за неровной кромкой снежных отвалов, блестела темная матовая гладь, каток, прочная ледяная Чистопрудная твердыня. Дальше, за узкой полоской пешеходной дорожки, за пустыми скамейками, за чередой машин, несущихся мимо («Аннушки» нет, ее стреножили на время), за темными стволами тополей горели фонари у бывшего «Колизея», слева высилась громада дорогой новорусской ресторации, исполненной с провинциальным разухабистым шиком, непотребной, нелепой, безвкусной.
— А помните, какая здесь была когда-то славная стекляшка? — Петр вел Нину к катку по снежной отмели, мимо праздных зевак, мимо бодрых собак, выгуливающих своих сонных хозяев.
— Смутно. Я здесь недавно. Хотя я рядом родилась, на Сухаревке. Это вы у нас абориген.
Петр держал Нину за руку, вел за собой, шел вперед, смеясь, говоря быстро, взахлеб, и это ощущение, полузабытое детское ощущение почти абсолютного счастья, простодушного, жадного восторга постепенно передалось и Нине. Она послушно шла за Петром, тоже смеясь, хмелея от беспричинной радости.
Тут что-то оглушительно щелкнуло, заскрипело над ними, над их головами, над катком. Как будто ночное небо над Чистыми прудами треснуло, словно замерзшее стекло. Но это тоже было весело — не страшно.
— Иди сюда. Не бойся! — Петр протянул Нине руку. Он уже стоял на гладкой ледяной тверди.
Нина молча покачала головой.
— Налейте мне вина! — грянуло вдруг над катком. Вот это что скрипело и трещало, это звуковых дел мастерга обкатывали престарелую, порядком изношенную технику. — Пришлите в номер счет! Пускай вокруг — весна, зато на сердце — лед…
— Вон они что поставили, молодцы, — заметил кто-то из собачников. — Наш похоронный марш, наш отходняк веселенький… Правильно. Помирать — так с музыкой.
— Нина! — крикнул Петр. Он разогнался и проехал по краю катка, скользя по ледяной его глади. — Идите сюда, покатаемся.
Теперь снова — «вы», Петр перескакивал с «ты» на «вы», Нина — тоже, все было непрочно, неопределенно, шатко, то ли «ты», то ли «вы». Вот так мы и скользим с тобой по льду на ощупь, может, упадем, может, устоим…
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Нина, идите!
Нина отрицательно покачала головой, благоразумно оставшись стоять у снежной насыпи. Нет, хватит с нее безумств, достаточно, на целую жизнь хватит этой осени, не пойду я к тебе, мне нельзя, Петя, не зови. Нет.
— Мои финансы поют романсы! — хрипел Буйнов. — Закатный берег, закат в крови… — Попсовый гимн, главная песня нашей осени и нашей зимы, какая жизнь, такие и песни, у нас теперь жизнь — попса, распродажа, дешевка, так давайте споем дурашливо, отчаянно, хрипло, надсадно! — Мои финансы, с волками танцы, не на чужие я играю — на свои!
Петр поскользнулся и упал, но тотчас вскочил. Ему же должно быть больно, его только что отметелили — нет, он уже выделывает какие-то немыслимые па под попсовую похоронку. Больно ему или нет, никто не знает, никто не должен знать, он — ванька-встанька, оловянный солдат. Он танцует — все сгрудились у снежной насыпи, смеются и аплодируют.
Буйнов орет, Петр пляшет… Цыгане шумною толпою… С ума сойти! Вот Петр сорвал с головы свою обливную кожаную ушаночку, кинул ее даме, выгуливающей шпица, жестами показал: а ты мне — свою шляпу.
— Выпил, что ли? — доброжелательно поинтересовалась дама у Нины.
— Ничего не выпил, просто веселый, — обиделась Нина.
— Что сделал я с душой? — надрывался Буйнов. — За медь и серебро…
Дама с собачкой швырнула Петру свою шляпу, Петр поймал ее, нахлобучил на голову. Теперь, манипулируя этой шляпой, то снимая ее, как бы прося у зрителей милостыню, то закрывая ею лицо в приступе лицедейского отчаяния, он выдал такой кабареточный класс и шик, что только держись, публика! Только держись, Нина.
— А в небе ангел мой! Танцует болеро… Мои финансы поют романсы…
Рядом хлопали от души. Только держись, Нина. Петь мы не поем, зато плясать — пляшем. Цыганская кровь.
— …Не на чужие я играю — на свои.
— Вот именно, — вздохнула дама с собачкой, прижимая шпица к груди. Петрову ушанку дама нацепила на голову, она сама теперь была похожа на собаку, на добродушного пожилого сенбернара. — Вот именно, что на свои. В том-то все и дело.
— Я поднимусь? — спросил Петр.
Нина уже открыла свою дверцу, собираясь выходить.
Нет. Не-ет, оловянный, никуда ты не поднимешься, Господь с тобой, понятно, чем это кончится. Теперь все по-другому, все изменилось за какую-то пару недель. Никуда ты не поднимешься, поезжай домой, нельзя.
А вслух она сказала:
— Может быть, мы все-таки заедем к мальчишкам?
— Я же вам говорю: они спят давно.
Опять он ей — «вы». А ты позволь ему подняться, Нина, и будет «ты», и все разрешится наконец. Что разрешится-то, опомнись! Как в пошлейшем анекдоте муж — в санаторно-курортной отлучке, а жена…
— Они сами засыпают?
— Сами, — ответил Петр. — Я их приучил.
— А Вовка темноты боится.
— Дрыхнет наш (надо же! «Наш»!) Вовка без задних ног. Смотрит десятый сон.
Можно, конечно, пригласить его на чай. Он голоден, он устал, его, между прочим, побили. Две недели назад он тебя врачевал, теперь, Нина, твоя очередь. Что ж вас бьют-то все время, оловянный, принцесса, а? Такая жизнь. Оловянная. Окаянная. Давай пригласи его к себе, окажи ему первую помощь.
Первую помощь я ему оказать могу.
Вторую — вряд ли.
— Вот и вам нужно выспаться, Петя. Поезжайте домой. Я тоже… Мне тоже… Мне завтра работать с утра.
— Завтра — воскресенье. — Петр смотрел прямо перед собой. — Насколько я знаю, у принцесс в воскресенье — выходной. Если они, конечно, не вкалывают сверхурочно.
— Я вкалываю. Я, Петя, принцесса-папарацци. А что? — И Нина невесело усмехнулась. — Ничего… Фонетически — близко. До свидания, Петя. Спасибо за все. Я завтра вечером Вовку заберу на денечек.
И Нина выскочила из машины, помахала Петру, успев отметить, что он сумрачен и даже не смотрит в ее сторону.
Она прошлась по комнатам, не раздеваясь, не зажигая света… Все к лучшему.