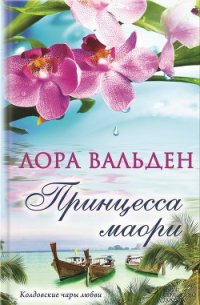Возвращение принцессы - Мареева Марина Евгеньевна (первая книга .TXT, .FB2) 📗
— Убирайтесь! — В мутных глазах его метнулась злоба. — Уходите отсюда!
— Ну не злитесь… Пожалуйста… — Еще один шаг. — Вы же мой любимый…
— Вон отсюда! — прорычал Проскурин, беря в руки обрез. Он ее ненавидел, она его бесила, его все сейчас бесило. — Вон!!!
— Мой любимый… актер… — Нина медленно шла к столу. Ну что он, выстрелит в нее, что ли? — Успокойтесь…
— Вон! — Бешеная муть застилала его глаза, он сжал в руке обрез. — Что, стрелять мне? Убирайся!
— Да положите вы вашу… пушку… — Нина подбиралась к столу, медленно, осторожно, упорно. — Вы что? Зачем? — продолжала она, задыхаясь. — Вы же хороший…
— Вон!
— Добрый… Интелли…
Он выстрелил в стену, вбок, не целясь, навскидку. Пуля прошила драгоценное чрево буфета из красного дерева, изуродовав нижнюю дверцу, расщепив ее пополам.
Несколько секунд они оба тупо смотрели на эту дверцу, потом Проскурин перевел взгляд на Нину и сипло повторил:
— Вон.
Нина молчала. Какое — вон? Это ведь нужно двигаться, передвигать ноги, а Нина сейчас — ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Ее ноги не слушаются. Она их не чувствует.
— Я считаю до трех, — объявил Проскурин. Обрез он положил себе на колени. Указательный палец завис над курком. И он не протрезвел ни на йоту, тут всякий бы протрезвел, а он — нет. Пустые глаза, угрюмый хриплый голос. — Давай уходи по-хорошему.
Хлопнула калитка. Скрип снега, шаги. Нина их слышала, дверь была открыта настежь.
— Я не уйду, — сказала Нина как можно громче, стараясь заглушить голосом звук этих приближающихся шагов. — Никуда я не уйду, не надейтесь.
Скрипнули ступени крыльца. Проскурин вздрогнул и поднял обрез.
Чьи-то руки сжали Нинины плечи, она понять ничего не успела, секунда — и она уже стоит за широкой сутулой спиной своего Солдатова.
— Вон отсюда! — надсадно крикнул Проскурин. — Оба!
— Бога ради… — Петр задыхался от бега, не говорил — сипел. — Наши желания совпадают.
Он спиной подталкивал Нину к открытой двери, теснил к выходу, закрывая собой. Она теперь ничего не видела, ни этого сбрендившего горе-самоубийцу, ни комнаты — только плечи Петра и его затылок, влажный от пота. Воротник его рубашки тоже потемнел от пота, куртка была полурасстегнута, съехала с плеча.
— Как ты меня нашел?
— Улицу за улицей объезжал… — Петр продолжал теснить ее к дверям. — Уже мимо проехал… Услышал выстрел — вернулся…
— Долго ждать? — рявкнул Проскурин. — Вон!
— С превеликим удовольствием, — почти учтиво ответил Петр.
— Петя, я не пойду.
Нина решительно вышла вперед. Петр схватил ее за руку, толкнул к дверям, снова заслонил собой.
— Я не пойду! — крикнула Нина, вырвавшись. — Мы не уйдем. — Она села на стул возле стены и добавила, глядя на Проскурина: — Он себя убьет. Он себя убить хочет.
Проскурин посмотрел на нее Хмельная муть по-прежнему застилала его глаза. Но кое-чего Нина все же добилась: кривая ухмылка тронула его бескровные губы, губы дрогнули». И то хлеб.
— Он хотел себя убить, — повторила Нина, бросив на Петра быстрый взгляд.
— Тоже хорошее дело. — Петр подошел к ней и заслонил от Проскурина. Нашел Нинину руку на ощупь, не оглядываясь, сжал ее. — Хорошее дело. Это он репетировал, наверное. Он же артист. Гамлета репетировал. Ты просто не поняла.
— Гамлет, Петя, зарезался. То есть его зарезали, кажется, — возразила Нина, мгновенно настраиваясь на предложенную им тональность. — Чему тебя в школе учили? — Нина чувствовала его руку — тепло, спокойную силу, защиту. Она под защитой. Уже не страшно. — Гамлета зарезали, а у этого — самострел.
— Вон убирайтесь оба… — затверженно выдавил Проскурин.
— А ты подсматривала? — спросил Петр у Нины, не оборачиваясь. — Нехорошо. Неприлично.
— Я не просто подсматривала. — И Нина наконец сбросила с плеча ремень сумки. Как затекло ее несчастное плечо, только сейчас она это ощутила. — Ладно бы я просто подсматривала! Нет, я даже попыталась это запечатлеть. — Она расстегнула сумку, достала фотокамеру. — Для потомства. На вечную память.
И она швырнула свой «Никон» на низкий диванчик, стоявший недалеко от стола, у которого сгорбился Проскурин.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Проскурин обалдело взглянул на Нину, перевел недоуменный взгляд на камеру. Вот теперь он протрезвеет. Очень хорошо, слава богу. Трезвеет на глазах.
— Зачем?.. — спросил Проскурин, чуть отодвинувшись от стола, чтобы рассмотреть Нину — Петр ее загораживал.
— А у меня работа такая. — Нина легонько оттолкнула Петра в сторону. Не нужно ее больше закрывать от проскуринской пули, ни в кого он стрелять не будет, он трезвеет, взгляд становится осмысленным. Нине нужно сейчас смотреть ему в глаза. Ей нужно выговориться. Ей САМОЙ это нужно. — У меня такая работа, Олег. Мне за нее хорошо платят. Я за эту пленку штуки две могу выручить «зелеными». Неплохо, правда?
Проскурин молчал, рассматривая Нину. Потом коротко усмехнулся, растер ладонью одутловатую небритую рожу. Что он сделал с собой, со всей своей красой неземной, холеной, породистой, штучной! Светлые рысьи глаза заплыли, утонули в тяжелых красноватых подглазьях Знаменитые проскуринские глаза потускнели и выцвели.
Зато теперь они снова были живыми. Они больше не были мертвыми, мутными, пустыми. Он никого не убьет. И себя не убьет. Можно подойти к столу и забрать у него этот чертов обрез. Нет, еще не время.
— Я это сделала. — Нина смотрела ему в глаза. — И рука не дрогнула, представьте себе. Что мне теперь прикажете делать, Олег? Я же была абсолютной мразью полчаса назад. Ну, и что мне с этим делать? Как мне дальше с этим жить? Что, может быть, мне тоже застрелиться?
Проскурин молчал. Странное дело: теперь он смотрел на Нину почти с симпатией. С каким-то глубинным, едва ли не родственным, сообщническим дружелюбием. Он ее понимал. Он знал, каково Нине. Он сам прошел через это. Не прошел — его ПРОВОЛОКЛИ через это. Через унижение, через позор, через насилие над собой. Его тоже проволокли по этому острому гравию. Он тоже в кровь ободрал свою кожу.
— Что, застрелиться мне? — упрямо, с отчаянным вызовом повторила Нина. — Последовать вашему примеру?
— Тужься, милая, тужься, — пробормотал Проскурин. — В наших роддомах нет горячей воды.
— А здесь никто не стреляется, — спокойно заметил Петр. — О чем ты, Нина?
Он подошел к столу и забрал обрез. Проскурин не шелохнулся.
— Никто не собирается. — Петр отошел от стола, держа обрез в руке. Присел на край диванчика, положил обрез радом с фотокамерой.
Несколько минут они просто молчали. Просто сидели друг против друга, все трое, медленно приходя в себя, постепенно успокаиваясь.
— Уходите, — сказал Проскурин. Теперь он не требовал, не угрожал — он просил их об этом. Он уперся локтями в столешницу и спрятал лицо в ладонях.
— Подожди, — возразил Петр. — Уйти мы успеем. Давай все же попробуем обсудить… Разобраться. Должна же быть какая-то причина! Или несколько причин…
— Ничего я с тобой обсуждать не буду, — буркнул Проскурин, не отнимая ладоней от лица.
— Давай попробуем разложить их на составляющие. Иногда помогает. Мне, во всяком случае.
— Ло-огик! — недобро хмыкнул Проскурин, взглянув не на Петра — на Нину. — Логик он у тебя. Разлагать желает. Иди разлагайся где-нибудь в другом месте.
— Ну что ты пристал к человеку? — мягко укорила Нина Петра, мгновенно почувствовав, что ей нужно сейчас держать сторону Проскурина, поддакивать ему во всем, соглашаться. Принцип не нов, злой следователь — добрый следователь. Проскурин почему-то выбрал Нину в «добрые». Значит, в эту дуду и следует дуть. — Что ты пристал к нему, Петя? Какая причина? Все причины — на поверхности. Человек устал жить в нашем бардаке. Он больше не может жить в бардаке.
— А ты можешь? — резко парировал Петр. — А я могу? Знаешь, моя дорогая, если каждый из нас начнет стреляться только потому, что ему тошно в нашем бардаке, — наш бардак очень быстро опустеет. В двадцать четыре часа.