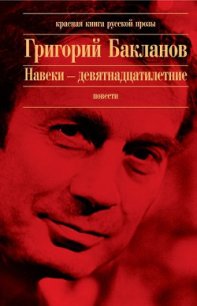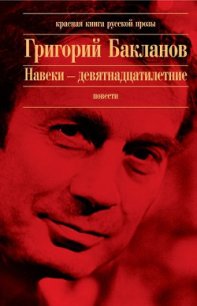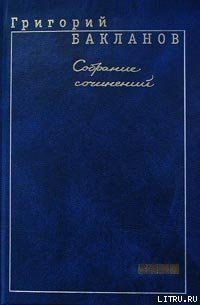Был месяц май (сборник) - Бакланов Григорий Яковлевич (читать книги без сокращений .txt) 📗
Показания трех свидетелей, жителей деревни Ракитки, видевших машину Карпухина в этой деревне около чайной в девятом часу вечера 14 июля, то есть примерив за три часа до совершения преступления.
Некоторые обстоятельства гибели Мишакова.
Попытка Карпухина скрыться сразу же после того, как им был сбит человек, чем косвенно подтверждалось предположение, что он был пьян и таким способом надеялся скрыть это, чтобы вернуться, когда это отягчающее обстоятельство будет уже невозможно установить.
И, наконец, показания пастуха Чарушина и прицепщика Молодёнкова о том, что задержанный ими в четырехстах метрах от шоссе и пытавшийся скрыться шофер, в дальнейшем оказавшийся Карпухиным, был действительно пьян и от него пахло водкой.
Никонов даже намеревался сообщить прокурору и еще одну очень важную подробность, добытую им в ходе следствия: то, что полтора года назад Карпухин в самом деле пил и даже возникал вопрос о его увольнении.
Вообще говоря, как честный человек, он не имел права делать это, потому что Карпухин рассказывал ему доверительно. И будучи убежденным в его невиновности, использовать доверие во вред ему же — это было нехорошо и нечестно. Но в том и состоял план Никонова, чтобы вначале не только объективно изложить все факты, но изложить их с точки зрения тех людей, для кого вина Карпухина представлялась несомненной. И тут такая степень откровенности могла быть только полезной.
Зато чем неопровержимей будет выглядеть эта цепь событий вначале, тем неожиданней и блистательней будет выглядеть тонкий анализ, при помощи которого Никонов намеревался в дальнейшем опрокинуть каждый факт в отдельности и всё событие в целом. Им так предвиден, так уже был предвкушен эффект в конце, что вся предшествующая часть казалась несущественной, через которую надо пробежать. Ему даже представлялось ночью, как прокурор Овсянников, этот суровый, порою даже хмурый, но несомненно честный человек, встанет и без слов пожмет его руку.
Но вот сейчас Никонов говорил, а Овсянников смотрел на него. На всем протяжении его речи сидел и смотрел через стол. И чем дольше так прокурор смотрел на него, тем неуверенней начинал чувствовать себя Никонов. Ему уже не казались такими неопровержимыми его доказательства. Но события вели его, и, нагромождая факты, уличавшие Карпухина, он со страхом ждал приближения того момента, когда все их ему придется опровергать. Он говорил, а мыслью забегая вперед, старался вспомнить доказательства, и от этой взаимоисключающей работы глаза его, которых сам он не видел, были испуганными.
— Итак, — закончил он заранее приготовленной фразой, — доказательства как будто бы достаточно убедительны и в какой-то степени не оставляют сомнений. Но взглянем на них под другим углом зрения, так ли они убедительны на самом деле?
Никонов в этом месте сделал заранее рассчитанную паузу и взглянул на прокурора. На лице Овсянникова, вдруг пожелтевшем, проступила боль, а глаза, ставшие тусклыми, смотрели на Никонова и не видели его.
Выражение боли, которое увидел Никонов, не имело никакой связи с тем, что он говорил сейчас. Это была физическая боль. Она мучила Овсянникова последние три недели. И даже не столько сама боль, как подозрения о причинах, вызывавших ее. Сейчас уже, возвращаясь мыслью назад, что он часто делал в последнее время, Овсянников не мог точно установить день, когда это началось. Потому что, когда он впервые обнаружил, что у него болит справа в боку, несколько ниже ребер, он понял одновременно, что эта боль знакома ему. Вместе с болью он обнаружил и воспоминание о ней. Значит, она была и раньше, только он, постоянно занятый, не имеющий для себя ни минуты свободного времени, просто не замечал ее.
В городе жил на покое некогда занимавший большие посты военный юрист Долбышев. Когда он, в прошлом саженного роста, шел по улице, волоча подгибающиеся ноги, весь трясущийся, с повисшими перед грудью кистями рук, а изо рта его стекала слюна, Овсянников, завидев издали, переходил на другую сторону или сворачивал в переулок. Он не понимал, зачем людям дают это видеть? Два раза в день — утром и вечером — Долбышев проходил через город, поводя бессмысленными, в красных прожилках, мокрыми, некогда грозными глазами. У него был тягучий голос идиота. А не так давно еще очень многое зависело от одного росчерка его карандаша.
Долбышев однажды рассказал Овсянникову, когда был еще не в таком состоянии, как заметил впервые у себя эту болезнь, позже оказавшуюся болезнью Паркинсона. Он шел по улице и вдруг носком сапога задел за камушек. Он еще оглянулся — ровный асфальт, никакого камушка не видно. И тут же забыл об этом. Потом случилось это в коридоре учреждения на паркете: шел и вдруг споткнулся на ту же самую правую ногу, опять задел носком сапога за что-то. И опять ничего не было. Потом это стало повторяться чаще.
Но Овсянников даже того первоначального камушка не мог у себя вспомнить. Правильно говорят: здоровый человек не замечает, есть ли у него сердце. Заметит, когда заболит.
Овсянников не считал себя ни малодушным, ни мнительным. Но он, конечно, не мог не подумать о том, о чем, если случается, прежде всего думает каждый культурный человек в двадцатом веке.
Казалось бы, в таком случае проще всего посоветоваться с врачами. Тем более, что он был прикреплен к обкомовской поликлинике. Но Овсянников отдавал себе отчет и понимал, что если у него это, так тут бессильны даже обкомовские врачи. Они могли только определить, но не вылечить. За ту грань их земное могущество уже не простиралось. Они даже не скажут ему, как всегда в таких случаях не говорят больным. Они тайком подготовят жену, а для него сочинят утешительную сказку, и он уйдет одураченный и обнадеженный. Сколько за эти годы видел он обреченных людей, которые, придя от врача, радостно рассказывали одну из очередных сказок, убеждая других для того, чтоб убедить себя, а окружающие знали уже, что это — рак! У Овсянникова достаточно было мужества, чтобы избавить себя хоть от этого унижения.
И кроме того, пока он не шел к врачу, оставалась маленькая надежда, что, может быть, у него все-таки не это. Пойти — значило и ее убить, последнюю надежду. А она временами разгоралась, когда боль отпускала его. Он просыпался утром и чувствовал вдруг: боли нет. Но он не верил еще, он прислушивался: слишком многое это значило для него. Он делал осторожное движение — боли не было. И пока он одевался, и брился, и завтракал, и шел на работу, и там на работе тоже — он все время различными движениями испытывал себя. Боли не было. И день освещался. Что бы ни делал он, он все время чувствовал: боли нет. Это была его тайна, его собственный праздник, о котором никто не знал. Но люди замечали, как он вдруг прислушивался к чему-то и улыбался хорошей, доброй улыбкой, видя которую хотелось самому улыбнуться.
И вот когда надежда крепла в нем, когда он, боясь верить до конца, начинал уже чувствовать себя здоровым человеком, боль возвращалась снова и всякий раз сильней, чем прежде. И день мерк, и жизнь меркла, и свет мерк в глазах.
Никонов пришел к нему в то утро, когда после целой счастливой недели, в течение которой уже поверилось, что все кончено и прошло, Овсянников почувствовал боль. В прежнем месте, в правом боку. И сразу настоящее изменилось, а будущего не стало.
Он сидел за своим столом перед разложенными бумагами и вслушивался, закрыв глаза, когда к нему постучались.
— Да! — сказал он, хотя охотней всего сказал бы тогда: «Нет!»
И сквозь боль взглянул на Никонова тем самым смутившим его взглядом. Никонов не знал, что стояло за ним, но по мере того как он говорил, а прокурор неподвижно смотрел на него, ему все больше становилось не по себе.
Там, в боку, было все тихо. Но Овсянников знал, что она там. И затихшая на время боль вновь шевельнулась в нём.
— Ну, я слушаю вас, — с внезапно пожелтевшим лицом сказал Овсянников раздраженно, когда следователь после долгой малоубедительной речи предложим взглянуть на дело под другим углом зрения и сделал паузу.