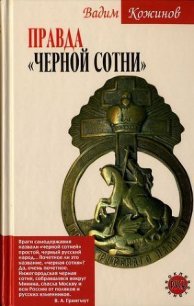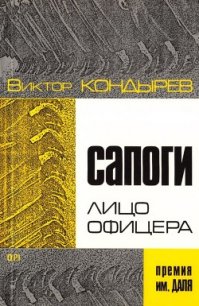Лицо войны (Современная орфография) - Белов Вадим (библиотека электронных книг .txt) 📗
Теперь все это кончилось… Солнце село, замолкли голоса битвы и над полем потянулся белый тонкий, как пар, туман.
Из окопов молчаливые и неутомимые солдаты выносили трупы убитых австрийцев, они несли их, держа за ноги и за плечи куда-то в сторону, должно быть к лесу, где для них рыли братские могилы…
В окопах, на влажном, вязком дне, размокшем от 7-ми дневных дождей, сидели уже солдаты наготове, держа винтовки обращенными в ту сторону, куда час тому назад поспешно уходил разбитый неприятель.
Рядовой Павел Семенюк лежал тоже прислонившись грудью к сырому холодному брустверу и глядя, в темневшую все гуще с каждой минутой даль, держа рукой, влажный от росы, приклад винтовки, думал о том, как он бежал через поле к этим окопам, как вокруг него сыпалась шрапнель и пели пули, как били они в землю и в людей, как падали бежавшие с ним рядом товарищи, одни назад, на спину, широко размахнув руками другие, словно споткнувшиеся, прямо лицом в землю, думал и удивлялся, как это удалось ему весь день уцелеть, да и не один день, а уже восемь дней, которые сплошь прошли в столкновениях с противником…
Эти восемь дней смерть так часто заглядывала в глаза Семенюку, так близко стояла за его плечами, что острота мысли о ней, ужас перед ней давно пропали, осталось только удивление своей судьбе…
«Округ сколько побило, а меня, поди же ты, и не задело»…
Проверяли по спискам роту…
Фельдфебель с забинтованной головой, вернувшийся уже в строй, выкликал по фамилиям.
Из окопа, на разные голоса или отвечали: «я», «есть», «здесь», или молчали… Тогда фельдфебель ставил крест и все понимали, что значило это молчанье и этот крест.
— Семенюк!..
— Я-o!.. — отозвался тот и фельдфебель даже на минуту оторвался от списка…
— Не ранен разве?.. — спросил он.
— Никак нет…
— Ишь, брат, какой ты счастливый, — усмехнулся подпрапорщик, — а я думал — тебя австрияк ухлопал, уж больно ты вперед лез… живучий ты хотя и «пскопской»… — пошутил он… — видно не судьба…
И перекличка продолжалась пока не прозвучала фамилия последнего солдата четвертого взвода и фельдфебель не ушел из окопа к ротному командиру…
— «Не судьба» — подумал ему вслед Семенюк и опять прилег на холодный песок… — а вот, видно, Семячкину и Арлашину так другая судьба!..
Семенюк вспомнил двух своих земляков из одной с ним роты, вспомнил, как погибли они оба, один, оставшись лежать в сыром окопе, а другой во время атаки в открытом поле…
И вслед за этим воспоминанием, потянулись вереницей другие, цепляясь друг за друга, как звенья таинственной цепи.
Что вспомнилось Семенюку? — то, что вероятно приходит в голову в ночные часы покоя и бдения каждому из этих людей, отозванных судьбой от семьи для больших страданий и больших подвигов…
Ведь у него, как у всех, была и семья и свой дом и любимая женщина…
«Слава тебе Господи, коли не судьба» — пробормотал он, опускаясь на дно окопа, когда его смене был дан отдых и новые серые фигуры с винтовками в руках выползли к брустверу.
Разбудили Семенюка веселые голоса товарищей…
«Вставай, заспался!».. — кричал знакомый голос соседа… — вперед выступаем.
Вперед!.. магическое слово, зажигающее кровь солдата… Что такое ночь, усталость, голод и холод когда надо идти «вперед»?! Как прекрасно и ясно раннее холодное румяное утро, как бодро и упруго молодое тело, отдохнувшее несколько часов!..
Вперед!..
Серые ряды уже тронулись, идут быстро и дружно враг отступает быстро и надо не дать ему возможности остановиться, опомниться, надо гнать его неуклонно, неумолимо, пока он не взвоет, не запросит пощады, не пойдет на уступки.
И все это сознают, сознает и Семенюк, бодро, шагая тяжелыми сапогами по мягкой, глинистой дороге… На боку его мотается вещевой мешок, а за спиной весело побрякивают котелок и кружка…
Перед отрядом раскинулось большое, покинутое, село…
Высится к голубому небу остроконечная кирка, белеют чистенькие домики, с палисадничками, но жизни не видно, только лают брошенные голодные собаки…
К селу подходят быстро и твердо: разведчики донесли, что австрийцы прошли дальше.
Село покинуто… Оно частью разорено, частью дома заперты и ставни закрыты…
Здесь привал… Большой привал для обеда, сейчас подъедут ротные кухни со щами, раздадут хлеб и можно будет на славу подкрепиться…
Но смертельно хочется пить, горло пересохло и даже саднеет…
Едва останавливают роту и командуют «составь» несколько особенно нетерпеливых вырываются из рядов и мчатся к колодцу, гремя котелками.
У Семенюка здоровые ноги, он быстро обгоняет всех, размахивая манеркой, с хохотом зачерпывает из колодца студеной воды и подносит манерку к губам…
В эту же минуту он слышит отчаянный голос — вопль: «Не пить, не пить воды!.. Австрийцы отравили колодцы»…
Но поздно… Холодная влага уже смочила пересохшее горло солдата, он невольно делает еще один глоток и, поняв смысл выкрикиваемых слов, останавливается в ужасе, с широко открытыми, ожидающими глазами…
Рядовой Павел Семенюк умер…
Судьба, спасавшая его на полях битв от неприятельских пуль, подстерегала солдата у предательски отравленного австрийцами колодца…
Его смелая простая душа плыла уже к голубому небу, к бездонному лазурному океану, в котором плыл красноватый диск холодного осеннего солнца.
Заступница
Постигла Марьяну эта беда в конце ноября месяца.
Мужа взяли на войну еще в августе, а едва выпал первый снег — поздний снег в эту зиму, — сбежал сын Семка…
Семке всего 15 лет, но мальчишка он бойкий, разбитной, в школе хорошо учился. Давно уже тянуло его туда, куда уехал отец и откуда приходили такие интересные вести. Семка каждый день бегал к учителю, прочитывал газету и возвращался с горящими глазами, весь поглощенный мыслями о войне, глухой к словам матери и невнимательный к ее приказаниям…
И вот Семка сбежал. Ночью надел полушубок, осторожно вышел в сени, притворил за собой неслышно дверь, ничего из вещей не взял и «навострил лыжи»… И вот с тех пор о нем ни слуху ни духу.
Марьяна примирилась со всем. Сперва с тем, что мужа угнали, а теперь, когда, убежал Семка, — тоже не роптала, только лишняя складка легла между бровей, да морщины стали глубже, как промытые дождевой водой ручейки на склонах песчаных холмов…
Село бедное, церковь маленькая, словно вросшая в землю, снегу сразу выпало много и одел он, как белыми шапками, избы и невысокий ветхий храм…
Сегодня сочельник. У Марьяны в избе прибрано к опрятно, но скучно одной; она оделась, вышла на улицу, миновала мостик через замерзшую речонку, на льду которой возятся, как черные букашки, мальчуганы, и вот теперь стоит около тускло-освещенного иконостаса церкви перед иконой Божией Матери.
Марьяна молится: за мужа, — горячо и искренно, а за сына, за беспутного Семку, «навострившего лыжи», — как то особенно пылко; какие-то особенно трогательные слова идут прямо от сердца, и Марьяна не старается облечь их в форму молитвы: в темноте еще пустого храма она беседует с Богородицей, как с доброй подругой, просит Ее совета, поведывает Ей свои печали, и прекрасное продолговатое лицо с ясными грустными голубыми глазами смотрит из рамы на склонившуюся женщину, как бы говоря ей: «Не страдай, Марьяна, Я твоя Заступница»…
А на дворе трещит мороз, тускло мерцают в окнах, засыпанных снегом изб красно-желтые огоньки и дрожат, мерцая переливаясь на темном бархате ночного неба, золотые и серебряные гирлянды бесчисленных звезд.
Между тем Семка уже пристроился.
Вот он стоит уже в солдатской шинели, слишком для него длинной, с рукавами, из которых не видно даже озябших кистей его рук, в нахлобученной на уши чужой фуражке, стоит с «настоящей» винтовкой в руках у опушки перелеска, засыпанного снегом, кажущимся при лунном свете легкой ватой, усыпанной осколками драгоценных алмазов… Семка — на разведке.