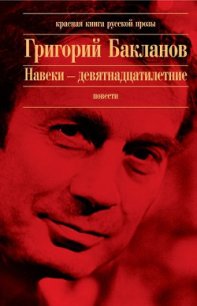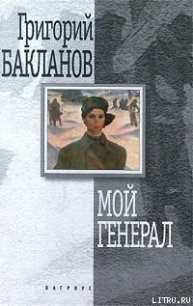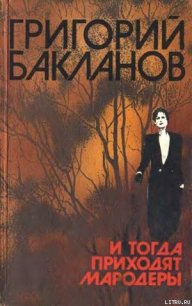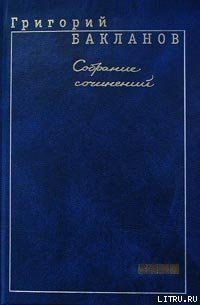Июль 41 года - Бакланов Григорий Яковлевич (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
— Будем драться здесь, — сказал он. Решение это давно сложилось в нем, но он хотел, чтоб и другие пришли к нему. Был только один достойный выход: зарыться в землю и тут, в окружении, принять бой. Жертвуя собою, связать немцев и дать корпусу оторваться и уйти. После этого боя в живых останутся не многие. Ночью, мелкими группами им, может быть, удастся просочиться сквозь кольцо, уйти в лес и начать долгий путь к своим. Надо было сообщить об этом решении Тройникову и Бровальскому на ту сторону, передать им приказ срочно сняться и уходить, оставив заслоны. Сорокин выслушал спокойно, оглядел носки своих сапог.
— Я скажу Нестеренке, чтобы сам отобрал добровольцев, которые пойдут на ту сторону. Прислать их и вам?
— Пусть пришлет… Поговорю с ними. Сорокин ушел, а Щербатов остался один. И снова мысли и образы обступили его. И вдруг нечаянно вспомнил Андрея совсем крошечного с темной реденькой челкой на голой голове и примятыми мягкими ушами. От того времени осталась плохая фотография: запеленатый младенец, такой же, как все младенцы, с остановившимися стеклянными глазами, в них свет, как два бельма. А у Андрея были живые раскосые темные глазенки; это потом они стали серыми. Щербатов вспомнил, как в голодном двадцать втором году, в крестьянской избе, продувавшейся со всех углов, они купали его, придвинув деревянное корыто к теплому боку печи. И это крошечное тельце, когда разворачивали парные пеленки, теплые его теплом, поджатые и скрещенные, как в утробе матери, сырые ножки с шевелящимися красными пальцами на них… Все такое маленькое, мягкое, неотвердевшее, что страшно было брать в руки. Он физически ощутил его и запах этот детский… Никому в целом свете не нужный еще, кроме них двоих, стоявших над корытом, спинами загораживая его от сквозняка… Много лет и много всего должно было пройти, пока Андрей понадобился стране и людям. Кто-то великий сказал, что с рождением ребенка у человека появляется новый объект уязвимости, и жизнь била Щербатова в самое уязвимое место, безошибочно найдя его. Он знал, что станет с Андреем, если не будет его. Судьбы многих сыновей, не отвечавших за своих отцов, как утверждалось официально, прошли в эти годы перед глазами. И опять, уже не впервые сегодня, Щербатов почувствовал жжение и боль в левой стороне груди и в лопатке. Он встал и начал ходить за стогом, чтобы боль не отвлекала его, не мешала думать, понять. Что можно было сделать? Когда не ты решаешь, а решают за тебя? Не таких, как Щербатов, давило и не такие гнулись. Можно было только погибнуть без смысла и пользы. Но из кого это сложилось? Жертвы, прежде чем стать жертвами, были судьями, и будущие жертвы садились судить их. Одни помогали, другие не видели, молчали. И пришло время, когда уже необходимо стало молчать. Но раньше, раньше… Когда еще только рождалось и было слабым, как все новорожденное, то, что потом получило власть и стало над партией, над страной, над душами людей. Когда он первый раз, увидев опасность, хотел сказать, но оглянулся на соседей и промолчал. Не тогда ли он сделал первый шаг на длинном пути, который привел к сорок первому году и к гибели Андрея? Когда Андрей был маленьким, казалось самый главным накормать его, «вложить в рот», как говорила жена. Потом стал больше, и уже другое тревожило: в рот вкладываем, а вкладываем ли в душу? В душу ему сумели вложить. Честные, чистые мальчики. Сквозь все незапятнанным дошел до них свет Революции, и, неся его в сердце, пошли они в свой первый грозный бой… Щербатов сел и вдруг зарыдал беззвучно, весь сотрясаясь, и слезы текли по его лицу, которое он изо всей силы сжимал ладонью. Мать должна вкладывать ребенку в рот, пока он еще мал и слаб, отец — завоевывать для него жизнь. Не дом оставлять в наследство, а мир, в который сын, выросши, вступил бы равноправным гражданином. Щербатов долго сидел зажмурясь. Он думал о жене. Ей еще предстояло узнать. С закрытыми глазами он увидел ее лицо, ее глаза, такие же, как были у Андрея, а теперь единственные родные глаза. Только они двое во всем мире знали, что потеряли они. И смерть сына больней и сильней, чем жизнь его, роднила их, навсегда осиротевших. …Адъютант, по другую сторону стога стерегший каждый звук, не решаясь показываться на глаза, услышал долгий, сквозь зубы, больной стон. И опять шаги, шаги до утра. За два часа до рассвета с той стороны пробрался разведчик, весь окровавленный, правой рукой, как ребенка, неся перед собой перебитую пулей левую руку. Он сообщил час, когда корпус пойдет на прорыв, на выручку к ним. Морщась от боли, разулся и из сапога, из-под стельки достал записку. Под ней стояла одна только подпись — Тройникова. Второй подписи, которую и Щербатов и Сорокин ожидали увидеть, — подписи Бровальского не было. Они не знали, что немецкое наступление застало Бровальского не в дивизии Тройникова, а уже по дороге в штаб, в полку, на который обрушился главный удар.
ГЛАВА XIX
В скопище людей, запертых в сарае, оцепленных со всех сторон, всю ночь шли разговоры. Люди переползали в темноте, ища земляков по мирной жизни, ища однополчан, — в пустыне бедствия душа искала родную душу. Только под утро Гончаров на короткое время заснул. И увидел сон. Он увидел землю, всю залитую туманом. Земля вращалась, стеклянно блестели под луной голубые океаны и моря. И заворачиваясь в сырые туманы, она уносилась, становясь все меньше, одинокая в пустоте среди звезд. А они смотрели ей вслед, и одной щемящей болью болело сердце, и даже во сне он чувствовал плечом тепло Борькиного плеча. Но проснулся Гончаров один. Мертвые только во сне с нами вместе, в явь мы возвращаемся без них. Бровальский же в эту ночь не сомкнул глаз. Он сидел, опершись спиной о бревенчатую стену, и думал. Жгла рана в плече, горячая на ощупь даже сквозь гимнастерку. Но сильней этой боли была другая боль. И мысль кружилась безостановочно, загнанная в один нескончаемый круг. И не раз среди пережитого, что само вставало перед глазами, вспоминал он старшего брата. Брата не тех лет, когда тот был в почете, малодоступен и суров, а последних лет, когда уже с ним все случилось и он из тюрьмы пришел к Бровальскому в его холостяцкую квартиру. В эти последние предвоенные годы он впервые за взрослую жизнь так близко почувствовал брата. Когда бы Бровальский ни встал — очень ли рано или в воскресенье попозже, — брат уже не спал. Одетый, он сидел на заправленной кровати в немой позе человека, привыкшего подолгу ждать. Зимой светало поздно, и он сидел в темноте, не включая электричества. На стриженой голове его постепенно отрастали волосы, и становилось видно, какие они теперь редкие. И еще продолжали лезть. С шишками на черепе, в этой позе ожидания он как-то сразу стал похож на их отца, и у Бровальского, глядя на него, сжималось сердце. Сквозь черты брата отчетливо проступали отцовские и то национальное, что раньше не было заметно в нем. Он помнил брата два года назад, в последние месяцы перед арестом, с двумя ромбами в петлицах, с черными подкрученными усами, которые он завел еще в гражданскую войну, когда деникинская пуля выбила ему передние зубы. Не лишенный честолюбия, уверенный в себе, вечно занятый, он считал время на минуты. Сейчас, зажав ладони в коленях, он сидел с опущенными плечами, а время текло мимо него. Бровальскому казалось, что именно теперь, когда он реабилитирован и восстановлен, брат, человек самолюбивый, с еще большим рвением будет служить, вернет себе то, что у него было отнято, хотя бы чтоб доказать всем, кто на протяжении этого времени втаптывал его честное имя в грязь. Но брат неожиданно вышел в отставку. Он читал газеты, слушал радио, был в курсе событий, но на все происходящее в жизни смотрел сквозь что-то невидимое другим людям, и Бровальский чувствовал, что он весь т а м, он не вернулся о т т у д а. Как-то раз он застал брата стоящим у окна. Тот стоял и смотрел на людей. Было воскресенье, и люди шли по улице веселые, шли семьями, и громко играла музыка, а брат смотрел на них из окна, как единственный человек, знающий, что с каждым из них может случиться. Словно должно было произойти землетрясение и исчезнуть мир, и потому особенно жуткими были эти последние минуты веселья идущих по улице, ничего не подозревающих людей. Впервые Бровальский понял, что происходит в душе брата, и испугался. Потому что с этим невозможно жить. Он понял, что все его усилия вернуть брата к жизни, все это было бессмысленно и безнадежно. А в то же время сам он, человек физически и духовно здоровый, не мог стать иным. Он делал то же, что делает большинство людей, охраняя свое духовное здоровье: не замечал. Инстинктивно старался не соприкасаться со всем тем, что могло это духовное здоровье нарушить. Спортсмен, лыжник, отличный наездник, не раз завоевывавший призы, он привык чувствовать себя человеком, показывающим пример. Но, входя в дом, он весь поникал в присутствии брата, начиная вод его внимательным ироническим взглядом стыдиться в себе того, чем в обычной жизни гордился. И чем сильней сознавал он свою вину, тем неудержимей хотелось ему вырваться на свежий воздух и там вздохнуть полной грудью. Брат почти никогда не говорил о том, что было с ним. А если рассказывал все же, то не в связи с каким-то событием, что-то напомнившим ему, а в связи со своим ходом мыслей, не прекращавшимся в нем. Так, однажды, щурясь на блестевший стеклами книжный шкаф, отчего казалось, что он улыбается, рассказал, как уже после всего, когда их троих — его, комиссара и начальника штаба — оправдали, председатель трибунала сказал начальнику штаба: «Как же вы сможете смотреть в глаза своим товарищам, которых оклеветали? Как вы с этим в душе останетесь жить?» И тот потом сел, стриженый и седой, и заплакал.