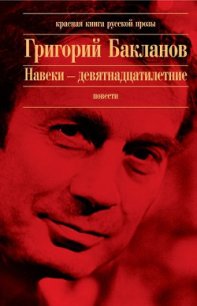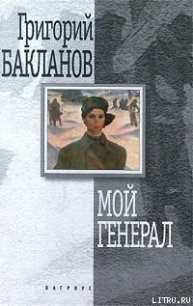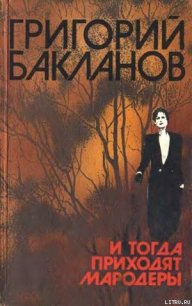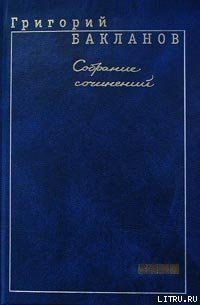Июль 41 года - Бакланов Григорий Яковлевич (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
— Туда, в приёмную, все стараются одеться прилично. Не богато, не вызывающе — прилично. Огромная очередь прилично одетых людей, старающихся произвести хорошее впечатление, а в окошко старичок отвечает всем одно и то же. Я никогда раньше представить не могла: там, в приёмной, где все связаны одной судьбой, люди сторонятся друг друга. Как будто думают: «У них мужья действительно враги народа, но в отношении моего произошла ошибка, и это сейчас выяснится». Я встретила в очереди свою коллегу, врача нашей поликлиники — она отвернулась. Мы час стояли рядом, как незнакомые. Когда видишь там размеры всего…— Она медленно покачала головой, глядя остановившимися глазами внутрь себя, во что-то ей одной видное. Ничто не может помочь. Только случайность. Процент, в который кто-то попадает. Уже встав и уходя, рассказала вдруг:
— Сегодня там девочка лет четырнадцати, такая, как моя Ира, принесла передачу сразу троим: матери, отцу и брату. Она приезжает откуда-то. Одна. От поезда до поезда. А окошко закрылось на перерыв на двадцать минут раньше. Кто что может сказать? И ей либо возвращаться обратно с передачей, либо сутки ждать на вокзале другого поезда. Она постучалась. Как мышка. Потом ещё. И вдруг окно раскрылось, и через него рукой вот так он ткнул её. Так, что она упала на нас… Знаете, это только ребёнок мог сделать. — У неё вдруг мурашки пошли по щекам. — Мы, взрослые, самое большее — можем заплакать. Она бросилась на это окно, как зверёныш, она била в него кулаками, кричала: «За что вы меня ударили? За что? За что?..» И что-то случилось с людьми. Очередь начала гудеть. Вы не поверите, он выбежал из дверей и сам при всех принял у неё посылку… Он не нас испугался, он что-то сделал недозволенное ему. Все должно совершаться в тишине и иметь вид закона. А он нарушил что-то. Больше соседка не заходила к ним. И вскоре уже передачи носила их старшая дочь, Ира. И ей, и отцу. Как та четырнадцатилетняя девочка, о которой она рассказывала.
ГЛАВА II
Среди тысяч сыновей, вместе составлявших 3-й стрелковый корпус генерала Щербатова, был лейтенант Андрей Щербатов, его сын. Не адъютант, не радист при штабе, не артиллерист — командир стрелкового взвода. Когда-то и сам Щербатов командовал стрелковым взводом, только лет ему было поменьше, чем сыну, едва-едва за семнадцать перевалило. Был он тогда уже ранен и снова уходил на фронт. И плакала мать, когда, казалось бы, радоваться ей и гордиться надо, видя его в ремнях и коже, с маузером на боку. Матерей начинаешь понимать, когда у тебя у самого растёт сын, такой же дурак, как ты когда-то. Но он — твой сын, и его мать отпустила с тобой на войну. Ночью Щербатов вызвал сына к себе. Он ждал его и думал о нем. …Однажды Андрей прибежал из школы возбуждённый. Это было время, когда ежедневно снимали одни портреты и вешали на их место другие, когда изымали книги и в учебниках зачёркивались фамилии. Андрей был в комитете комсомола, в гуще всех событий. В тот раз он прибежал после комсомольского собрания, на котором разбиралось дело его сверстницы Иры, дочери соседей. У детей, как и у взрослых, существовал уже установившийся порядок: перед своими товарищами, перед классом она должна была на комсомольском собрании осудить своих родителей, врагов народа, отречься от них.
— Понимаешь, отец, — рассказывал Андрей, заново переживая, — мы ей говорим: «Тебя мы знаем, но им ты должна дать принципиальную оценку. Ты — комсомолка!» А она, как дура, стоит перед всеми и твердит своё: «Моя мама — честный человек. Она не может быть врагом народа. Даже когда папу арестовали, она мне все равно только хорошее говорила про товарища Сталина». «Да ты пойми, говорим мы ей, они тебе всего не рассказывали». Объяснили ей, поняла, кажется, и — опять своё: «Моя мама — хороший человек». — «Значит, органы НКВД арестовывают невиновных, так по-твоему?» Это говорил ему Андрей, сын, и лицо сына дышало искренним возбуждением. Щербатов спросил осторожно:
— А если б тебе сказали, что вот я, твой отец, — враг народа. И ты должен отречься от меня…
— При чем тут ты? — Андрей обиделся. — Как ты можешь так говорить? Ты в революцию воевал! А она сама созналась, что отец её по месяцу не бывал дома, ездил в какие-то научные командировки. Научные!.. Может она знать, чем он там занимался? Ручаться имеет право? Два раза, оказывается, за границей был. Могли его там завербовать? Могли! Откуда она знает? Да если хочешь знать, у нас сегодня в школе у всех отобрали тетрадки с Вещим Олегом! Оказывается, если перевернуть тетрадку вниз головой, так из шпор получается фашистский знак. И другую тетрадку тоже отобрали. Где Пушкин. Там позади него — полки с книгами. Так из книг можно составить: «Гитлер!» Я сам проверял! Щербатов смотрел на него. Андрей не знал прошлого. Не пережив сам, он знал его только в том виде, в котором оно существовало сейчас. Для Андрея, например, имена полководцев революции, ныне исчезнувших с позорным клеймом врагов народа, были просто именами. Для Щербатова это были живые люди, которых он знал, под чьим командованием сражался не в одном бою. Он помнил оборону Царицына несколько иначе, чем она излагалась теперь. Для Андрея же если не единственным, так величайшим полководцем революции был Сталин. И все планы разгрома белых, которые он изучал в школе, это были планы, предложенные Сталиным, которые потом Ленин одобрял. Он начал свою сознательную жизнь, когда единственным именем, вобравшим в себя все, было имя Сталина. Оно было так же несомненно, как солнце на небе, которое он привык видеть ежедневно, как воздух, которым он дышал. Поколебать эту веру? А с чем оставить его в душе? Слепая вера страшна, но страшно и безверие. Быть может, впервые в тот раз вдвоём с сыном, родным человеком, Щербатов чувствовал себя одиноким. …Щербатов стоял у окна, когда Андрей подошёл к штабу. Светила луна из-за чёрных зубцов сосен, и в свет её по росе вышли двое. Щербатов сразу увидел Андрея. А с ним была женщина. В юбке, с пистолетиком на боку. В пилотке набок. И, конечно, завитая. Вся в кудряшках. И старше его. Во всяком случае, опытней. Сразу видно. А Андрей держал её руку. Они стояли под луной на расстоянии друг от друга, и Андрей, смеясь, рассказывал что-то и был счастлив. Но оттого, что на них могли смотреть ординарцы от штаба, он держался с нею небрежно. Как будто они просто знакомые. Просто шли вместе. Но ревнивым отцовским глазом Щербатов сразу увидел, что они не просто знакомые. И передёрнул плечами. Он испытал брезгливое чувство за сына. Дурак! Молодой и дурак! Цены себе не знает. Разве это нужно ему? В пилотке, с пистолетом… Он отошёл от окна, встретил сына, стоя посреди комнаты.
— Пришёл? Здравствуй. Щербатов подал руку, и сын с внезапно заблестевшими глазами стиснул её изо всей силы. Рука отца была шире, её неудобно было жать, Андрей даже заскрипел зубами от усилия. Мальчишка! Головки хромовых сапог его блестели росой, а голенища были седыми от пыли. Километров пять сейчас прошагал. От волос его, от гимнастёрки пахло лесом, вечерним туманом — молодостью пахло.
— Сейчас будем обедать, — сказал Щербатов. И тут в дверь вошёл Бровальский.
— А-а!.. — сказал комиссар, увидев их вдвоём. И, дружески здороваясь с Андреем за руку, он улыбкой показал на него, словно бы представлял его Щербатову: «Каков!..»
— Ты здесь будешь? — спросил он погодя. — Так я поеду. Это «ты» не было выражением полной душевной близости между ними. Это было скорее полагавшееся «ты». Иначе могло выглядеть со стороны, что командир и комиссар не едины.
— Съезжу погляжу, как там и что, — сказал Бровальский небрежно, как о несущественном, улыбнулся и поднял брови. Он был уверен в совершенной необходимости своей поездки. Сейчас, когда в ночи уже снялись войска и начали своё движение к переднему краю, все, что было в штабе, устремилось туда, и Сорокин, и Бровальский вот тоже, словно бы им неловко друг перед другом не участвовать. Они мчались, чтобы дать выход охватившему их нетерпению, чтобы там, на дорогах, превратившись в сержантов и взводных, отменять чьи-то приказания и давать свои, которые потому только лучше, что исходят от вышестоящего начальства; чтобы требовать к себе внимания и тем самым ещё больше увеличивать путаницу и неразбериху.