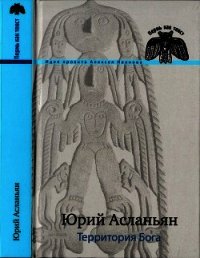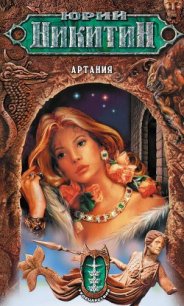Дети победителей (Роман-расследование) - Асланьян Юрий Иванович (книги бесплатно без онлайн .txt) 📗
Я пролежал на старом диване Феди Зубкова три дня — боли в теле прошли, синяки не совсем, но сошли… Как мало мне надо — я по-прежнему радовался жизни и был счастлив, что зубы целы.
Пришлось руководить выпуском последнего номера по телефону. Верстальщик Слава утверждал, что пытался убежать, но его догнали, избили почти у Компроса. Сейчас он уже попадает пальцами в клавиши. А вопрос, кто совершил нападение, меня не мучил, потому что я жил в стране настолько цивилизованной, что ответ не имел значения. Слишком много желающих убить кого-нибудь сегодняшним вечером.
Главный вопрос, который меня мучил все это время, заключался в том, что мой красный «дипломат» исчез.
Первая Чеченская. Гужбан.
Солдат, в плену был 4 месяца: «Поначалу били не очень, а потом с каждым днем всё зверели и зверели… Среди нас были татары, вроде единоверцы, а так же над ними издевались. Сами курили наркотики и нас заставляли курить.
Как накурятся, начинают нас избивать. Весело им становилось. Кормили один раз в день, лепешка, чай, иногда бросали кости… Офицера бросили в яму и стали кидать камни, потом стали палками толочь его, как картошку.
Учился на учителя младших классов, хотел детей учить. А сейчас не хочу детей учить. Единственное, что сейчас хочется, поехать туда не в качестве военнопленного, а пойти уже с оружием. Хочется отомстить».
«Независимая газета», июнь 1996 года.
Я опять вспоминал деревню Неволино.
Мы слышали нарастающий стук ее каблуков. И вот она входила в класс: белые туфли, белые чулки, белый халат, белокурые вьющиеся волосы, ясные голубые глаза.
Педагоги школы-санатория, как и врачи, обязаны были носить белые халаты.
Инесса Васильевна, учительница литературы и русского языка, приносила на уроки альбомы с рисунками Пушкина и фотографиями музейных экспозиций из усадьбы Михайловское или петербургской квартиры поэта.
Спокойная, уверенная в себе женщина, к предмету преподавания относилась с тайным восторгом, как к личной миссии на Земле. Ее гордая голова и чуть вздернутый нос напоминали мне русский линейный корабль «Гота предистинация» с широкими белыми парусами. Я тогда еще не знал, что это название переводится как «Божье предвиденье». И тем более не ведал, что речь идет о предвиденье моей судьбы. Как не знал того, что именем деревни Неволино названа целая археологическая культура — неволинская, по могильнику, раскопанному на том берегу Ирени.
Уроки литературы Инессы Васильевны были похожи на таинства приобщения к вечности.
В тот день я подумал, что учительнице понадобилось уйти куда-то на те два часа, что отводились по расписанию на литературу и русский язык.
— Я оставлю вас одних, — сказала она, — а вы в это время пишите стихи. Пишите все. После уроков сдадите мне.
Она ушла, и ни один паршивец не вылетел из класса. Все сидели за столами и в абсолютной тишине писали стихи. Все — даже те, кто никогда этого не делал, кто только умел воровать, материться и курить, втягивая тяжелый дым в туберкулезные легкие.
Сегодня я думаю, что это был гениальный урок творчества — неожиданный, доверительный, основанный на первобытной потребности познания мира.
Она не знала, кто из нас будет спровоцирован на всю жизнь, а может быть, и более — на трансцендентное существование в мистическом пространстве поэзии. Может быть, она рассчитывала на кого-нибудь одного…
Гениальный писатель, ветеран лагерей Варлам Тихонович Шаламов умер в доме инвалидов. Наверное, поэтому неволинских одноклассников на стезе поэзии я не встречал. Какие стихи, господи, когда люди каждый божий день разрывают бытие на куски, как жареную свинью? А ведь всем был предоставлен камертон вечности — на целых два часа.
«У комбата убили ротного. С капитана сняли скальп, выкололи глаза, отрезали уши и оскопили. Теперь лишь убитый чеченец на несколько дней успокаивает душу комбата, и он спит спокойно».
«Аргументы и факты», 1996 год.
Потом к Феде пришел Женя Матвеев с гитарой — пел мне песни: «Отцветет и поспеет на болоте морошка, вот и кончилось лето, мой друг…» Я лежал, курил, слушал — и мысли мои уходили по кривой, по ленте Мёбиуса, в которую сворачивалась обычная обечайка гитары, похожая на знак бесконечности и «восьмеричный бой» блатного мотива, фольклорного ритма, фигуру вальса, на три четверти.
Тяжело, когда тебя бьют на улице родного города.
Потом появился Алексей, которого Федор уже предупредил по телефону, что произошло с его другом. То, что и должно было произойти.
— Кажется, мне удалось выяснить, кто это был, — сказал он, усаживаясь в старое кресло. — На тебя напали парни из охранного агентства «Витязи».
— Кто — витязи?.. — изумился я.
В тишине я начал просчитывать всевозможные векторы движения и коэффициенты корреляции. Линии не пересекались. Пока не пересекались. Мозг был сохранен, но ослаблен.
— Обращаться в милицию — последнее дело, — заметил Женя.
— Я обратился к милиционеру, — начал оправдываться я, — а не в милицию… За кого ты меня держишь?
Криворожский все это молча слушал. Он вышел на кухню, слышно было, как звякнула крышка — вероятно, чайника — и загудел кухонный газ. Женя тихо улыбался.
— Женя, зачем ты на лазерном диске сказал такие слова: «…мы споем песню вологодского автора Николая Рубцова. В этом стихотворении есть несоответствие тому, что происходит с морошкой в это время в наших широтах»? Кто тебе сказал, что Рубцов писал о наших широтах, а не об архангельских, где он тоже жил? Там морошка поспевает как раз в конце лета.
Женя мрачно посмотрел на меня, встал и вышел из комнаты — щелкнула туалетная дверь. Мы сидели молча минуты три. Потом Леша вышел на кухню, вернулся со стаканом чая.
— Зачем ты обидел нашего друга? — укорил Алексей.
— А зачем он обидел Рубцова? Покойника любой обидит — он не может ответить…
— Отвечать можно заставить любого.
— Ментовская ментальность…
— Что ты сказал? — привстал Леша из кресла, держа в правой руке ломтик лимона, который только что достал из стакана с чаем.
— Я сказал: ментовская ментальность…
Закончить я не успел: Леша сделал резкий жест рукой, и ломтик лимона полетел мне в лицо, скользнул по щеке горячей оплеухой.
— Урод, — ответил я. — Мент поганый…
Лицо Алексея исказилось так, будто ему всадили иглу в заднее место. Он вскочил и бросился ко мне, схватил за пуловер на груди и одним рывком бросил на пол, плашмя, сел сверху и начал профессионально сдавливать горло длинными пальцами. Я хрипел, но он медленно продолжал пережимать мне дыхалку. Его лицо было искажено ненавистью — он ждал, когда я сдамся и перестану сопротивляться. Но мне не удавалось расцепить его руки на горле. Я решил умереть молча. И еще я надеялся, что зайдет Матвеев, но того почему-то все не было и не было… У меня начало мутнеть в глазах — взор застила вечность… Но я не отпускал ментовских рук.
Неожиданно пошел воздух — я лежал на полу и смотрел в потолок… Потом услышал, как хлопнула входная дверь, догадался, что мой личный мент ушел. Ни Зубков, варивший что-то на кухне, ни Матвеев в комнату не заходили.
Наконец появился Федя, приковылявший на своих несросшихся ногах.
— Что случилось? — спросил он, стоя в проеме дверей на костылях.
— Ничего, — хрипло ответил я, — упал с дивана…
Появился Матвеев, он молча посмотрел на меня и улыбнулся:
— Трезвый, а лежа падаешь… Где Алексей?
— Он ушел…
Я сел на пол, медленно встал, подошел к зеркалу — до странгуляционной полосы дело не дошло, слава Богу. Так, небольшой синяк слева, где мой друг, видимо, слегка пережал.
Наджабил душу, погань…
На следующий день Федя Зубков рассказывал, что когда я упал под стол, Женя Матвеев сказал: «Столько пить — опасная профессия!»