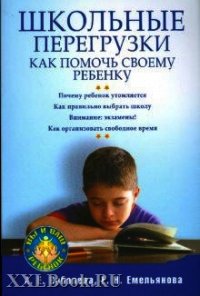Роковая красавица (Барыня уходит в табор, Нас связала судьба) - Туманова Анастасия
– Боже правый, да не так! – раздосадованно сказала Настя. – Митро, поди сюда! Ну, ты-то понимаешь, что я хочу? Играй!
По лицу Митро было отчетливо видно, что он понимает еще меньше Рыбникова, но готов играть что угодно – лишь бы Настя не загрустила снова. Перехватив гриф гитары, он наугад взял несколько аккордов, и, к изумлению всех присутствующих, Настя радостно воскликнула:
– Да, так! Еще! Играй еще!
Вскоре и самовар, и пряники были забыты. Молодые цыгане, усевшись возле рояля, жадно следили за схваткой Рыбникова, Митро и Насти. Мелодию для новоиспеченного романса подобрали довольно быстро, спели несколько раз под одобрительное покряхтывание присутствующих. Стешка уже сорвалась было звать Якова Васильевича на прослушивание, но Настя снова забеспокоилась:
– Нет… Опять не то что-то… Владислав Чеславыч! Господин сочинитель! Нельзя ли еще строчечку? Сюда бы припев хорошо, просто сам просится!
– Но… как же? – растерялся Заволоцкий. – Матка боска, не слишком ли будет длинно?
– А вы еще что-нибудь про глубь речную. Это самое красивое, – серьезно сказала Настя. Свечи тронули оранжевым отсветом ее лицо, заблестели в глазах. Она стояла в двух шагах от Ильи, и на какой-то миг ему даже показалось – вот-вот взглянет… Но она не обернулась. Выжидательно смотрела на смущенного студента: – Пожалуйста, Владислав Чеславыч! У меня уж и первая строчка есть! Что, если так: «Пусть эта глубь – безмолвная…»
– Пусть эта даль – туманная… – неуверенно продолжил Рыбников из-за рояля, и Настя восхищенно закивала. Вдвоем они уставились на Заволоцкого, который, нахмурившись и раскачиваясь на пятках, напряженно думал.
Цыгане боялись рта открыть и лишь завороженно следили за качанием «господина сочинителя», сопровождающимся невнятным бормотанием:
– Размер совсем другой… Меняется рифма… С женской на мужскую… Черт знает что… «Пусть эта глубь – безмолвная… Пусть эта даль – туманная…» Хорошо, черт возьми! – Он перестал качаться, обвел цыган загоревшимися глазами. – Настасья Яковлевна, а что, если так – «сегодня нитью тонкою связала нас судьба»?
– Правильно! – хором закричали Рыбников и Настя. – А дальше?
– Твои глаза бездонные… – подсказал, усмехнувшись, Митро.
– Твои стихи бездарные… – буркнул в рифму Рыбников, но на шутника гневно обрушились всей компанией, и он, замахав руками, завопил: – Отстаньте, вражьи дети! Дальше вам любой раёшник сложит! Твои глаза бездонные – и губы твои алые! И руки твои белые! И грудь твоя безмерная… прощенья просим у дам-с… Ну же, Заволоцкий! Кто из нас, в конце концов, пиит?
«Пиит» наконец добился внимания, перекричав поднявшийся в комнате хохот. Он заявил, что если некоторые варвары и неучи закроют рот, то он прочтет почти сложившийся в голове вариант припева.
Настя отчаянно замахала руками на цыган, и стало тихо. Заволоцкий, запинаясь, прочел:
Заволоцкий запнулся, виновато пожал плечами. Цыгане все как один подались к нему, чувствуя – рождается что-то небывалое. Настя сжала ладони, как на молитве. Рыбников сморщился, словно от сильнейшей боли, застонал:
– Ну давай же, Владька! Давай, сукин сын! Сущий пустяк остался! «Твои глаза бездонные, слова твои обманные и эти песни звонкие…»
– Свели меня с ума… – вдруг раздалось с пола.
Тишина. Чье-то тихое «ах…».
– Не подойдет так? – хрипло спросил Илья.
Вокруг молчали. Илья видел два десятка ошеломленных взглядов, буравящих его. Еще месяц назад он сквозь землю бы провалился от такого внимания к своей персоне. А сейчас видел лишь черные, лихорадочно блестящие глаза Насти. Впервые за вечер она повернулась к нему.
– Ура! Браво! – грянул Рыбников. – Недурно пущено! Илья, да ты, оказывается, тоже поэт!
– «Судьба – с ума»… Довольно слабая рифма, – нахмурился Заволоцкий, но профессиональная критика утонула в радостном гаме.
Вся компания кинулась к роялю, но Митро с грохотом захлопнул крышку и, перекрыв своим басом взрыв возмущенных голосов, заорал, что романс должен пойти только под гитару, а петь должен только Илья.
– Настька! Ну скажи ты им, скажи сама! Кто лучше Смоляко споет?
– Никто, – хрипло сказала Настя, глядя в темное окно. – Илья… окажи милость.
За мерзлыми стеклами летел снег. Красные язычки свечей дрожали, отражаясь на крышке рояля. Где-то в глубине дома мерно тикали часы. Перебивая их, чуть слышно всхлипывала гитара Митро. Негромко, вполсилы звучал голос Ильи:
Если бы это пение услышал Яков Васильев, Илья вылетел бы из хора в тот же день. Не хватало дыхания, голос срывался, пересохшие губы дрожали. Он пел, глядя поверх голов цыган в синее, покрытое ледяной росписью окно, словно со стороны слыша собственный голос. Впервые за полгода, проведенные в хоре, он видел, ясно видел то, о чем пел. Стояла перед глазами черная речная гладь, подернутая седым туманом, мутным пятном светился огонь на дальнем берегу. Даже холодную прибрежную сырость Илья ощущал всей кожей, и молчание воды, и лунный обманчивый свет, и бездонную, стылую глубину реки. И стояло перед глазами бледное лицо с двумя черными ямами глаз. Настя… Настя… Настя… Почему, за что? Что он сделал, чем обидел ее? За что…
Гитара смолкла. В комнате повисла тишина. Илья стоял, глядя в пол. Больше всего хотелось повернуться и выйти вон.
– М-да-а-а… – нарушил тишину задумчивый голос Рыбникова. – Это, пожалуй, будет посильнее «Невечерней»… Как вы думаете, Настасья Яковлевна… Настасья Яковлевна?!
Илья вскинул голову. И успел заметить лишь мелькнувший подол черного Настиного платья. Закрыв лицо руками, она молча метнулась прочь из комнаты. Хлопнула дверь. Стешка, ахнув, вскочила было, но нахмурившийся Митро поймал ее за рукав:
– Сиди, дурища…
– Мы ее расстроили, – огорченно сказал Заволоцкий. – Не нужно было разводить эту вселенскую печаль, она еще нездорова…
– Нет, брат, тут другое, – Рыбников ожесточенно поскреб в затылке. – Да-а-а уж… Ну что ж, Илья, давай еще раз? Репетнем? Что-то ты, душа моя, петухов пускать начал.
– Не буду, – процедил сквозь зубы Илья. И, не замечая обиженного взгляда студента, ушел на диван. Там присел рядом с художником, про которого в пылу сочинительства все забыли.
Немиров, за весь вечер не проронивший ни слова, торопливо чиркал сточенным карандашом по бумаге. Илью он даже не заметил. Тот осторожно поднял с пола упавший листок бумаги. Усмехнулся, рассмотрев собственную физиономию с тем самым выражением на ней, которое Яков Васильев называл «всю родню похоронил». Получилось очень похоже. Заинтересовавшись, Илья глянул через плечо Немирова.
Даже в небрежном, сделанном на скорую руку наброске легко узнавались Настины черты. Фигура, одежда были изображены легкими торопливыми линиями – художнику явно не хотелось задерживаться на них. Зато, казалось, половину листа заполняли огромные, широко раскрытые глаза. Черные глаза Насти, полные слез. Художник захватил тот момент, когда она, стоя у рояля и сжав ладони, слушала новорожденный романс. Илья в тот миг не смел и взглянуть на нее. «Твои глаза бездонные, слова твои обманные…» – снова вспомнилось ему. Сглотнув вставший в горле ком, он хрипло сказал: