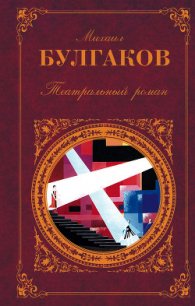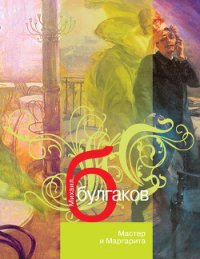Свет невечерний. Созерцания и умозрения - Булгаков Сергий Николаевич (читать книги без .TXT) 📗
Для того чтобы могло явиться новое откровение о власти, нужно, чтобы пред религиозным сознанием во всей остроте стала ее загадка.
А для этого надо, чтобы начало власти было изжито во всей глубине, изведано как таковое, познано в его собственной природе. Для того чтобы жизненно осознать проблему теократии, быть может, надо временно лишиться теократических видимостей или прообразов, оказаться поставленным лицом к лицу пред властью в ее человеческом образе, в ее природной «звериности». И в этом может выразиться и положительная сторона ее «секуляризации». Гетерономия власти, одинаково характерная и для языческой лжетеократии, и для клерикального «христианского государства», затемняла природу власти в ее автономии и вела к тяжелому смешению Кесарева и Божия. В этом была двусмысленность и нере^ шительность, которая приводила к фальши и подменам, к деспотии или лжетеократии, т. е. к торжеству того же «звериного» начала, лишь прикрываемому иной официальной фразеологией. Этим подготовлялась и внешняя победа «секуляризации», «правового государства» с его человеческой честностью, искренно охраняющей «благо народа» и его свободу. Но именно эта атмосфера воинствующего народобожия, царства от мира сего, заставляет духовно задыхаться тех, кто лелеет в душе религиозный идеал власти и не хочет поклониться «зверю», принять его «начертание» [960]. Можно и должно сохранять лояльность, терпеть хотя и немилую государственность, даже высоко ценить ее практические достоинства, видя в ней относительное житейское благо или хотя меньшее зло, чем обветшавшая и изолгавшаяся власть старого фасона. Но любить эту власть, ощущать к ней религиозный эрос можно, лишь принимая участие в культе демократического Калибана, «принося жертвы зверю». Следует принимать государственность, сведенную к политическому утилитаризму, так же, как и бремя хозяйственных забот: признавая честность этого труда, аскетически нести его как жизненное «послушание»; однако «честность», корректность, есть лишь религиозно–этический минимум, между гем как религия во всех делах хочет максимума. И тем не менее эта обмирщенная государственность есть уже своего рода отрицательное откровение о власти. Это разросшееся и дифференцировавшееся тело власти есть тоже «земля проклятия», растрескавшаяся и иссохшая, и она жаждет небесной влаги. «Правовое государство» с его правовыми гарантиями, со всей своей земной мудростью и человечески–относительной правдой, не угасит тоски об ином царстве, не только холодного права, но и любви, об иной власти — теократической. Но, конечно, вопрос этот имеет смысл только в Церкви, и речь идет здесь не о политике в обычном смысле слова, а именно о религиозном преодолении «политики», о том преображении власти, которое и будет новозаветным о ней откровением. Здесь возможны одни только чаяния да смутные предчувствия: где, когда, как, зримо или незримо миру, не знаем. Тут возможны только домыслы да чаяния, о которых не место здесь говорить. Русский народ, исполненный апокалипсического трепета, носит в себе и это предчувствие — в своей идее «Белого Царства», чрез призму которой он воспринимал и русское самодержавие. Того же касаются и прозрения глубочайших выразителей русского духа: славянофилов, Φ. Μ. Достоевского, Вл. Соловьева, Η. Ф. Федорова. Даже непримиримость к «звериному» началу государственности у Л. Н. Толстого, у которого все положительные идеи облекаются в отрицания, принимают форму «нето–вщины», говорит о том же, как и мистическая революционность интеллигенции с ее исканиями невидимого грядущего града [961], хотя и облекающимися в чуждую и уродливую форму социально–политического утопизма, да и вообще известный аполитизм русского народа, имеющий источник не только в недостаточной дисциплине личности и общества, но и вообще в отсутствии вкуса к срединному и относительному.
Итак, на эмпирической поверхности происходит разложение религиозного начала власти и торжествует секуляризация, а в мистической глубине подготовляется и назревает новое откровение власти — явление теократии, предваряющее ее окончательное торжество за порогом этого зона [962] [963].
6. Общественность и церковность [964].
Власть есть скелет человеческого общества, которое имеет, кроме того, свои органы и ткани, свою физиологию. Существует стихия общественности, — существование общества есть такой же элементарный и в своей наличности непреложный факт, как и наличность власти. Человек неотделим от человечества, он есть настолько же индивидуальное, насколько и родовое существо, — род и индивид в нем нераздельны, сопряжены и соотносительны. Поэтому индивидуализм, подъемлющий мятеж против родового начала и мнящий его преодолеть, в действительности выражает только болезнь родового сознания, вызванную упадком элементарной, стихийной жизненности в связи с преобладанием рассудочности, рефлексии: он есть «декадентство», которое, притязая быть кризисом общественности, на самом деле означает лишь кризис в общественности. Против такого индивидуализма прав даже элементарный научный социологизм, который умеет осязать общественное тело, с разных сторон и разными методами познавая силу социального сцепления и наследственности, постигая характер социального детерминизма в его статике и динамике. И бунт против родового начала столь же фальшив и бессмыслен, как и бунт против своего тела во имя утрированного спиритуализма.
Человечество существует как семья, как племя, как классы, как национальности, как расы, наконец, как единый человеческий род. Бесспорно одно, что оно определенным образом организовано, есть организм, как в верном предчувствии важной мистической истины учит социология, так наз. органической школы. Эта связность выражается в политике, экономике, нравах, социальной психологии, вплоть до моды и сплетен. Однако непосредственно она переживается скорее как болезненное чувство дезорганизованности: взаимная борьба и эгоистическое самоутверждение царят в общественности. Здесь постоянно соперничают силы центробежная и центростремительная. Поэтому искание организованной общественности есть всегдашняя забота и труд для всего человечества, причем оно делается тем напряженнее, чем сложнее становится само разрастающееся общественное тело человечества, чем ощутительнее социализируется жизнь. Человечество ищет такой общественной организации, при которой торжествовала бы солидарность и был бы. нейтрализован эгоизм: такова мечта всех социальных утопий. Напряженная борьба эгоистических самоутверждений здесь почитается или каким–то недоразумением, которое возможно разъяснить, или злоупотреблением, которое можно устранить, или несовершеннолетием, которое можно перерасти. Отыскивая причины социального зла в несовершенствах той или иной социальной функции, социологи обычно совсем не видят его общих и глубоких корней, страдают в понимании проблемы зла социологическим дальтонизмом и ограниченностью. В этих мечтаниях о нормальной общественности обнаруживается одна общая черта, — надежда как–нибудь обмануть личный и групповой эгоизм, обойти, перехитрить его солидарностью, насытить, не посягая ни на чьи интересы. Об этом ведь говорит лозунг: свобода, равенство и братство (без братьев!). Задача организованной общественности имеет две стороны: не только свободу, но и подчинение, не только равенство, но и различие, не только братство, но и принудительную организацию. Иначе говоря, общественный идеал стремится к осуществлению не одной всеобщей свободы и равенства, но и истинного иерархизма, вне которого нет общественной сплоченности. На чем же должен утверждаться такой иерархизм? На это не может быть ответа в порядке социологическом.