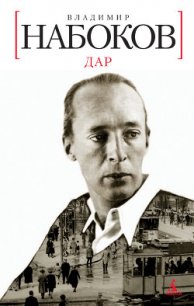Другие берега - Набоков Владимир Владимирович (чтение книг .txt) 📗
Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячок, покинувший царскую службу оттого, что не захотел быть ответственным за какой-то не нравившийся ему мотор, К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шуба, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить — упруго упереться в педали, — его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что впрочем случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему. Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сиденьями,
«Торпедо-Опель», которым мы пользовались в деревне; на нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель, со скоростью семидесяти километров в час, что тогда казалось упоительный, и как гремел ветер, как пахли прибитая дождем пыль и темная зелень полей, — а теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, запросто катя из Бостона в Альберту, Калифорнию или Мексику. Когда в 1913-ом году Пирогова призвали, его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз, Цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917— го года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему «Уолзлей» от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места, и вероятно был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских торцах снег и гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, — на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был № 47 по Большой Морской. За ним следовал дом Огинского (№45). Затем шли итальянское посольство (№43), немецкое посольство (№41) и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой Площади. Слева от Мариинской площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, был сквер; там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка в снятой им комнате недалеко от площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались, ничком на плоских санках, в детстве) были свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие Первую Революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям, ребятишек, вскарабкавшихся на ветки.
Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней, — какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вореных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом, мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы.
Став одним из лидеров Конституционно-демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира.
Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском Училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая; все свои силы для домашних отрад, — своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг, — и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании «приобщиться.к среде», в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в иностранных играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество) все стою где-то «на задворках», а не бегаю с другими «ребятами». Особой причиной раздражения было еще то, что шофер «в ливрее» привозит «барчука» на автомобиле, между тем как большинство хороших тенишевцев пользуется трамваем.
Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось «правление» и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуке, этим бесплатным добавлениям к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники -несомненно прекраснейшие благонамеренные люди — с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца.
Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для «Речи», работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых м"е занятий он может мне подать-да и подавал-тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому» миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью, или как сегодня связан с сыном.
Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжанье особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой «комитетских» карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался — как столь многие члены нашей многочисленной челяди — примерным старым слугой, балагуром и добряком; женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки («Устя! Устя!»), откуда тепло пахло курицей. Но по-видимому постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливыми шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома.