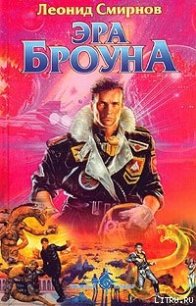Умереть и воскреснуть, или Последний и-чу - Смирнов Леонид Эллиевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .TXT) 📗
Разве могут миряне предсказать что-нибудь дельное и-чу, которых они отродясь не понимали и боялись? Даже смешно слушать. Однако я с готовностью протягивал свою крепкую, мозолистую ладонь косматой, звенящей монистами ведьме или взволнованным дурочкам с влюбленными глазами – томительно пахнущим шоколадом и дешевыми духами.
Девчонки вокруг меня так и вились. Парни завидовали, но ни разу не пытались намять мне бока – робели перед и-чу.
Моя линия жизни была длинна и кончалась странной загогулиной – то ли перекрестьем, то ли многоточием. «Что это значит?» – всякий раз требовал я ответа. Говорили мне разное, путались в объяснениях, не желая пугать недобрым пророчеством. Наверное, на старости лет мне предстоит сделать какой-нибудь кульбит или выкинуть номер. Жуткий кульбит. Смертельный номер. Доживем – увидим…
У отца линия жизни была гораздо короче. Он, правда, не верил ни уличным гадалкам, ни маститым прорицателям. У него с жизнью и смертью были свои счеты. Меня он в них не посвящал. Равно как и маму.
В том памятном 1928-м году отец исполнял в Гильдии и-чу скорее хлопотные, чем почетные обязанности кедрин-ского Воеводы, и дома мы видели его совсем мало. Каждый раз, возвращаясь поздним вечером с работы, он был слишком усталым, чтобы всерьез заниматься детьми. Спросит, как дела в гимназии, рассеянно выслушает ответ, пожелает спокойной ночи… Вся тяжесть домашних дел и воспитания легла на маму.
Наша мама… О ней особый разговор. Такие женщины рождаются раз в сто лет и на всю жизнь делают счастливым мужчину, с которым делят кров и постель. Я всегда – порой даже против воли – сравнивал с нею моих подружек, и сравнение, ей-богу, было не в их пользу. Огромные глазищи, милые мордашки, стройные ножки, острые грудки и упругие попки – все при них, и даже умные мысли порой рождаются в их кукольных головках, если только посильней наморщить лобик. Пустышек никогда не терпел, а от умных – натерпелся… Одного у них нет как нет – маминой доброты, терпения и особенной, женской мудрости.
Мама всю себя посвятила семье. Взятая в дом Пришвиных из семейства бедных шишковецких рыбаков, она возродила к жизни обитель десяти поколений славных Истребителей Чудовищ. До ее прихода это был временный лагерь воинов, готовых в любую минуту без сожаления бросить ветшающее пристанище ради другого бивака и уверенных, что именно так им и предстоит кочевать весь свой век. Теперь же он стал настоящим домом и-чу.
Некогда славный и грозный род, казалось, был обречен прерваться. Двое мужчин жили здесь тогда: рано овдовевший дед и отец, успевший потерять любимую. Отец никогда не рассказывал нам, своим детям, как погибла Оленька. Но я слышал краем уха, будто вервольф целился в Федора Пришвина, а попал в его невесту.
И дед, и отец уже не помышляли о продлении рода – слишком страшно вводить в свою полную опасностей жизнь хрупкую, беззащитную женщину; чересчур легко лишиться самого дорогого, чего не вернуть никогда.
Дом Пришвиных был обиталищем суровых мужчин, и поначалу ох как несладко пришлось молоденькой девушке в его мрачных и скорбных стенах. А от порой случавшихся здесь яростных загулов и вовсе хоть в петлю лезь. Победить запустение гораздо легче, чем изгнать тоску и скорбь, которые воцарились в доме после трагической гибели бабушки, Марии Николаевны Пришвиной.
И-чу редко доживают до старости – такова природа Гильдии. Марию Николаевну зарезал на рынке сумасшедший, которому казалось, будто все беды в Сибири идут от и-чу. Отец хотел зарубить его, но дед не дал – скрутил убийцу и собственноручно доставил в лечебницу для буйных.
…Одного за другим мама рожала Федору Пришвину здоровых и красивых детей, и дом наполнялся младенческим гуканьем и щебетанием, детским смехом и плачем. Он ожил, будто вернувшись с того света.
Только благодаря маме мы чувствовали себя детьми – шумными и веселыми непоседами, которым многое позволено, которых любят, о которых заботятся, – а не бойцами-недоростками, вечно виноватыми в том, что слишком медленно растут и так мало умеют. Испокон веку присущее семейству спартанское воспитание теперь чудесным образом сочеталось с теплотой семейного очага, с домашним уютом и каждодневным счастьем. Ибо с тех самых пор в старом доме на берегу реки Колдобы обитало счастье.
На сей раз гадала мне по руке синеглазка с пушистыми ресницами. Пунцовая от смущения (морозный румянец на мраморных щеках), по-мальчишески стройная, с едва намеченной грудью, одетая в белое с голубыми волнами платье и белые босоножки. Каштановые волосы были собраны в тугой пучок, но она их вдруг выпустила на волю, как-то незаметно выхватив дюжину длинных шпилек. И эта роскошная, сверкающая на солнце грива могла вскружить голову и увести на край света любого кедринского парня, но только не меня. Я ведь был Истребителем Чудовищ и ощущал себя на голову выше любого мирянина.
Руку мою гадалка вскоре отпустила и стала пристально – как окулист на медкомиссии – разглядывать глаза. Радужка, дескать, о многом говорит. Прямо-таки просверливала меня насквозь. Выражение лица внезапно изменилось – появилась в нем какая-то отстраненность и глубокая печаль, да и постарела она будто лет на десять, став женщиной, кое-что повидавшей на своем веку. Скажете, не бывает таких превращений с молоденькими девушками? И я так считал до того дня.
Нагадала она мне черт знает что. Будто стану я сподвижником императора. А где она его видала? В каком дурном сне? Будто поймаю наиглавнейшего оборотня на Земле, но вместо того, чтобы казнить его и получить великую награду, отпущу на все четыре стороны. Будто один я буду как перст и каждый, кого приближу к себе, вскоре падет замертво. Нагадала и сама перепугалась. Понесла чепуху: мол, не бери в голову, напридумывала я всякого, чтоб смешней было, фантазия разыгралась…
Но я чувствовал: не зря все это, не просто так, дыма без огня не бывает. Впрочем, испугать меня было нелегко. Молодости свойственно верить, что смерти нет, а впереди – вечность. Забывал я быстро обо всем плохом, не напрочь правда, – в дальний конец сознания откладывал, словно про запас.
Девушка Мила была милой девушкой, но не более того. Я и не собирался крутить с ней любовь, как тогда выражались, – вообще ничего серьезного не затевал. Погулять по вечернему, пахнущему сиренью городу, поболтать, обсмеять сытого городового с новомодной электрической дубинкой на ремне, угостить девушку газировкой и мороженым в павильоне на обрывистом берегу Колдобы – и больше ничего.
Еще на стадионе она битый час строила мне глазки, сидя неподалеку на трибуне. Мешала смотреть решающий матч чемпионата Сибири по лапте: кедринская команда принимала тюменцев, которые в то лето претендовали на «золото».
Я дотерпел до конца игры, которую, кстати говоря, наши выиграли на последней минуте. А потом взял да и подошел к Миле. Познакомились. Слово за слово… Завожусь я с полоборота, язык что помело – не остановишь. Поначалу мне с ней было неплохо, но часа через два стало скучно. Уж больно серьезные суждения она имела обо всем – чуть ли не планы переустройства общества вынашивала. И почему-то считала, что и-чу непременно должны желать перемен.
Много говорила о политике и мало – о развлечениях, которых городская молодежь наизобретала в тот год, словно спеша отдохнуть и поразвлечься напоследок – пока еще вокруг тишь да благодать. Кроме нового колеса обозрения и турнира по джиу-джитсу освоили мы, безуспешно пытаясь угнаться за столичной модой, слалом на долбленках (верхние пороги к тому времени еще не были затоплены рукотворным морем), горный самокат и прыжки с парашютом с Бараньей Головы.
Моим шуткам Мила смеялась редко, хотя чувством юмора ее бог не обделил. Альбионского юмора, похоже. На самом деле ее звали Милена, Милена Кропацки. Ее деда выслали в Кедрин после поражения второго Судетского восстания. Отсюда и твердокаменная враждебность сибирским властям, отсюда и мысли недетские. Слушал я ее – и вдруг подумал: мозги у нее повернуты. А я терпеть не мог фанатиков, какие бы благородные идеи те ни исповедовали; на дух не выносил.