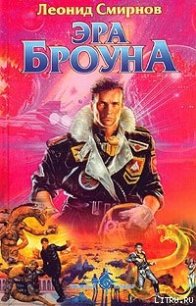Умереть и воскреснуть, или Последний и-чу - Смирнов Леонид Эллиевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .TXT) 📗
Мила видела меня насквозь. Колдуньей не была – просто умненькая девочка. И чем прикажете таким вот умным заниматься в Кедрине? В библиотекарши податься или преподавать в женской гимназии курс популярной истории? Скорее всего выйдет замуж за шибко головастого и ни на что в реальной жизни не годного ссыльного из числа вечных студентов, которых в любом большом городе пруд пруди. Будет рожать ему детей, стирать носки, варить окуневую уху да похлебку из свиных потрошков, ведь ничего лучше на ссыльное пособие не купишь.
Она разочаровалась во мне. Она обиделась. Она ушла домой. Ушла одна. Я предложил проводить, но без особого интереса – приличия ради; она сразу почувствовала и отказалась. Если б я знал, чем этот вечер кончится…
Среди ночи зазвонил телефон в родительской спальне. Тревожный, дребезжащий звук разнесся по дому – пронзительная трель разбудила всех. Был третий час – самая темень. Отец снял трубку. Тоже проснувшись, я вскочил с постели, прокрался босиком по коридору к двери родительской спальни, опустился на корточки, прижав ухо к замочной скважине. Шестое чувство подсказало: это по мою душу.
Из детской доносились голоса, но, даст бог, пронесет. Застань меня сейчас здесь – от позору хоть вешайся.
– О господи! – сказал отец, и у меня мурашки побежали по спине. Голос отца было не узнать.
Я сразу подумал о Миле. Бог знает отчего. Может, вину свою чувствовал или ее пророчество задело за живое?
– Что там? – послышался встревоженный голос матери.
– Сейчас его позову, – глухо сказал в трубку отец, не отвечая жене.
– Я тут! – закричал я из-за двери, и голос сорвался, дал петуха. – Я войду?
– Входи.
Родители сидели на постели, укрытые одеялом до пояса. На матери была ночная рубашка, отец спал без одежды. Его мускулистый, в шрамах, торс кое-где покрывали черные с проседью волосы.
Огромная резная кровать из мореного дуба (фамильная – предмет семейной гордости) была для меня в детстве центром вселенной, да и позже вызывала во мне трепет. Она высилась в спальне этаким мавзолеем, и казалось, рядом с ней я становлюсь ниже ростом.
Отец протянул мне черную пластмассовую трубку. У нас был старинный, много на своем веку повидавший, но безотказный аппарат довоенного выпуска. Трубка была горячей – так крепко отец ее сжимал.
– Я слу… слушаю. – Голос мой снова сорвался. Стыд какой!
– Здравствуйте, Игорь Федорович. Извините за беспокойство. С вами говорит инспектор криминальной полиции Бобров. Не могли бы вы подъехать к нам в префектуру? Мотор через пять минут будет ждать у дверей. – Тон вежливый, но непреклонный.
– Что случилось, инспектор? – Я наконец взял себя в руки.
Треть минуты из трубки доносились только шорохи.
– Несчастье, Игорь Федорович, – произнес Бобров изменившимся голосом. – Большое несчастье… На месте узнаете. – И повесил трубку.
Я посмотрел на отца. Он покачал головой, вздохнул тяжко:
– Что ж ты, сынок…
На меня будто гранитную плиту положили. Я не стал его расспрашивать. Только хуже будет. Сам все узнаю. Сам справлюсь. Хватит с меня! Надежд не оправдываю, честь семьи то и дело роняю, а теперь вот и того хуже…
Я быстро оделся и умылся. Машина действительно ждала меня у парадного крыльца. Знаменитый черный «воронок» с решетками на окнах – бронированный «пээр», собранный из индеанских деталей на заводе имени Павла Рамзина. Распахнутая настежь дверца не делала его гостеприимнее.
Мать, наспех одетая и причесанная, провожала меня, стоя в дверях дома. Она помахала мне рукой, и я вдруг подумал: уж не прощаемся ли навсегда? Нет, вздор. Иначе отец не остался бы в комнате.
Отродясь я не ездил на полицейском моторе. Черные сиденья в кабине «пээра» оказались мягкие – вопреки моим ожиданиям. В кабине нас было трое: мрачный водитель, в кожаной тужурке и таких же галифе, молодой белобрысый опер, в клетчатом пиджаке и картузе, улыбчивый, но отнюдь не добрый, и ваш покорный слуга, напуганный и бледный.
Водитель мягко тронул с места, и «пээр» стремглав понесся по нашей узкой, извилистой улице, спеша поскорее вырваться на широкий и прямой как стрела проспект Демидова.
Вересковая улица да и весь квартал Желтый Бор, где вместе с полутора тысячами обычных мещан жили два десятка семейств и-чу, вызывали у городского начальства острое желание сделать ноги. Начальникам здесь становилось душно. Нам тоже не хватало воздуха на забитых машинами центральных площадях и проездах, не говоря уж о невыносимо пахнущих пылью коридорах и кабинетах чиновных учреждений.
– Да ты не боись – разберемся, – сказал опер и поправил пиджак, оттопырившийся на груди, – под мышкой у него висела кобура с безотказным наганом.
Короткие сапоги его были как будто чем-то испачканы – временами он непроизвольно начинал тереть нога о ногу. Спохватывался, прекращал, но хватало его ненадолго. Всю дорогу он с любопытством поглядывал на меня. У него был неприятный взгляд. Опер предвкушал удовольствие. Давняя жажда отплатить и-чу скоро будет утолена.
Машина миновала аляповатое здание Центрального телеграфа, впереди показались колонны и атланты Торгово-промышленного банка. Сейчас въедем в центр. Молчаливый водитель впервые открыл рот и процедил сквозь зубы:
– Им что чудище убить, что девочку – один черт…
Это он об и-чу говорил. У меня язык присох к гортани. Я вдруг понял, что есть люди, которых никогда ни в чем не убедишь. И что люди эти сплошь и рядом могут получить над тобой власть, по крайней мере обязательно попытаются. И тогда тебя не спасут ни железная логика со здравым смыслом, ни христианские заповеди, ни освященная веками мораль Домостроя. Нам нельзя оказаться слабее, нас тут же растопчут. Желающих найдется предостаточно – можно не сомневаться.
– Думай что говоришь! – буркнул опер. – Где и с кем… – И тут я понял еще одну важную вещь: он отнюдь не порицал водителя и скорее всего был согласен с ним.
При этом опер на меня не смотрел – отвернулся, будто что-то важное в окне высматривал. Боялся, что загляну ему в глаза. И я впервые порадовался, что нас, и-чу, боятся. Эта радость помогла мне превозмочь злость и тревогу, и я был почти спокоен и готов ко всему, когда «пээр» затормозил у ворот префектуры.
Опер привел меня в кабинет и передал с рук на руки. Инспектор Бобров радушно предложил мне сесть и распорядился, чтобы принесли кофе со сливками и булочки.
– На пустое брюхо мы с вами ни черта не наработаем. Давайте подождем немного, – произнес, приятно грассируя, и надолго замолк.
Он был больше похож на купца первой гильдии, чем на служилого человека. Круглолицый, лысеющий, с рыжеватыми бакенбардами, пушистыми бровями и усами, в чуть потертом черном сюртуке с клетчатым галстуком (булавка с жемчужиной) и серых брюках. Но когда я присмотрелся как следует, его маленькие, глубоко запрятанные в череп глазки показались мне хорошо замаскированными электронными приборами, с помощью которых любого подозреваемого можно вывести на чистую воду.
На стене висел портрет Рамзина; великий государственный муж взирал на меня с сочувствием. В дальнем углу кабинета я обнаружил пыльного стенографиста в очках. Он склонился над маленьким столиком и то и дело встряхивал головой, стараясь не задремать.
Бобров сидел за письменным столом с богатым письменным прибором из бронзы и малахита и в ожидании секретарши точил карандаш ножичком с перламутровой ручкой. Порой он бросал на меня короткие испытующие взгляды и этим был похож на опера. «Все они одним миром мазаны, хоть повадки и разные, – с неприязнью подумал я. – Крысы…»
Посреди стола стояла деревянная рамка. Инспектор вдруг протянул руку и повернул ее ко мне. Это была фотография Милены. В груди у меня похолодело.
На голове у Милы был венок из полевых васильков и ромашек. Она была прекрасна. Я смотрел на нее, и кабинет тускнел, растворялся, выветривался – в никуда. И даже сам инспектор словно утекал сквозь открытую форточку, сквозь вентиляционную решетку, сквозь дверную щель и замочную скважину.