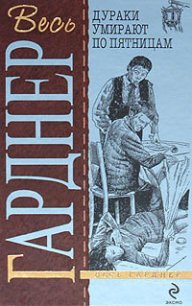Великий Сатанг - Вершинин Лев Рэмович (книги .TXT) 📗
Так я себе решил и опять сделал не думать за гешефты.
Немножко пообсуждали насчет как делать программу; он пояснял очень коротко, в глаза не смотрел, но все было умно и хорошо; между прочим, по-человечески он понимал вполне прилично, почти все, и объясняться, как выяснилось, тоже умел, хотя и с акцентом, странным таким, похожим на как бы говорил картавый грузин, только очень быстро…
Он поел, а отдыхать не пожелал. Зато захотел пройтись в город, и я с удовольствием сказал: «Да». И мы вышли из конторы и пошли по улицам; я шел и думал: «Люди, люди, вот вы сегодня не смотрите на меня, и это ваше дело, потому что кого интересует лысина Аркаши?.. Но зря вы не смотрите этого мальчика; пока еще это можно за просто так, а завтра бесплатно, извините, уже не получится…» И пусть я повторюсь, но я таки очень сильно люблю свой город, хоть и ставший свалкой с тех пор, как Топтунова впервые поцеловали у моря, но все же, как по мне, так самый лучший, считая и Рио-де-Жанейро. Эти краски, эти толстые тетки, которые безответно пытаются узнавать меня и строить глазки, эта суета с шумом, этот гам за просто так — вы знаете, лично для меня все это, как вода для рыбы, и уже не надо лекарств. И я показывал ему все, что получше, чтобы он тоже хоть немножко полюбил, а потом почаще приезжал сюда на гастроли добровольно и без конвоя — ведь Аркаша, скажем правду, тоже не вечный, а когда меня не будет совсем, так кто сможет насильно затащить сюда первоклассных исполнителей?.. Они скажут «Нет!» и поедут в какой-нибудь, извините за выражение, Уолфиш-Бей…
Мы шли по Ришельевской. Я не очень хорошо знаю, кто такой этот Ришельевский, и уже не узнаю точно, потому что дедушка Мотя в могиле и спросить некого, но, кажется, это кто-то когда-то был и был хорошо, если до сих пор такая улица называется его именем. Малыш поначалу просто очумел: он вертел головой, словно это у него не голова, а флюгер, и я не мог оторвать его ни от одной витрины, даже такой, где только тампаксы. Нет, не подумайте, он ничего не хотел покупать, даже не спрашивал, он просто смотрел — но как смотрел! — мы так смотреть уже не умеем. Потом он все-таки попривык, слегка успокоился и впервые посмотрел на меня как на что-то одушевленное.
– У вас большие пункты раздачи благ.
Нет, вы представить себе не можете, как он это сказал! С одобрением, да, но эдак свысока, как будто там у него, в зачуханной глубинке, магазины еще лучше!
Тут же он добавил:
– Но излишества благ — не во благо!
И больше на витрины не заглядывался.
Мальчик был молодой, резвый, как козочка, и совсем не думал про пожалеть мои больные ноги, и на астму мою ему тоже было плевать, потому что, пока молодой, в астму не веришь…
Когда мы дошли до Софиевской — угол Гурвица, знаете, около дома-музея Леандра Верлу, я понял, что еще немножко шагов, и мой дебютант вполне может остаться без опытного импресарио, и вот тогда я встал как статуя и сказал:
– Нет, дитя мое, Аркаша дальше не пойдет.
И мы спустились в «Лит-Арт». Ой, и что там начало твориться, когда богемка прочистила глаза и увидела живого Топтунова!.. Содом и Гоморра? — нет, там было тише. Между нами говоря, Аркаша среди тамошней публики — событие еще то, и вполне может быть контракт, а контракт с Топтуновым — уже не какая-нибудь путевка в жизнь, а вагон экстра-класса с проводницей-фотомоделью, подстаканниками из мельхиора и прочими прибамбасами… и вот поэтому юные дарования, которые в штанах, сразу же принялись громко показывать таланты, а которые без — делать вид, что у Аркаши нет никакой лысины… Ну да, так вот когда бармен смог-таки отогнать их от меня, я посмотрел по сторонам, полюбовался девочками побюстее и сообщил народу:
– Ша, дети! Аркаша хочет тишины и кофе.
Накануне дебюта это, не смейтесь, большое дело, и никакое сердце тут уже не имеет значения.
Стало тихо и две чашечки кофе.
От коньяка, — между прочим, очень приличного, — парнишка отказался. А я нет. Если слушать всех врачей, то помрешь намного раньше, хотя и здоровеньким. Дедушка Мотя, например, вообще не знал, что такое врачи, и хотя однажды и умер, так ведь в девяносто семь и оттого, что стерва Муська приревновала его сковородкой тютелька в тютельку по виску…
Так вот, Лончик мой сидел, как скушав аршин, и пил кофе маленькими глотками. Да, и я же забыл: пару слов о нем. Что вам сказать? Мальчик-красавчик, совсем как этот, что стоит на бульваре. Девки не сводили с него глаз, прямо как когда-то с меня, но тут оказалась выдержка — совсем не та, что была у Аркаши, когда Аркаша еще многое мог; он даже взглядом не повел. То есть повел, но не по ним, а по стенам. Что-то поискал, удивился, потом повернулся ко мне и спросил:
– А где же Вождь?
– Кто? — не понял я.
– Вождь единый, мудрый, Вождь, несущий нуждающимся блага.
– А-а, ты за бармена? Тебе что-то еще заказать, Лончик?
Какой это был взгляд! Меня хотели съесть. Однако все же не съели, и Лон снова спросил:
– Почему земные сестры так на меня смотрят?
Я офуел. Потом сказал ему все как есть — он ведь уже вполне взрослый, сам зарабатывает, причем вполне прилично, и должен все знать, если пока еще не знает. И что вы думаете? Мальчик выслушал и брезгливо сморщил нос («Боже, какая прелесть! — подумал я. — Он что, до сих пор ничего и не нюхал?»).
– К чему? Необходимое мужчине мне трижды преподала наставница Тиньтинь Те. Она выносит росток моего древа. А сверх необходимости — не во благо. Это отвлекает от труда.
Я опять офуел, на этот раз — круче.
Ну и мальчик, однако, ну и планетка… ну и вождь! — вот этого я, конечно, не сказал, но хорошо подумал.
Когда мы вышли на улицу, он оглянулся на лесенку «Лит-Арта» и сказал одно только слово:
– Гниль!
Надеюсь, не про меня. Или про меня тоже, но не очень.
А в Малом Зеркальном нас уже ждали смотреть, и шлепать дотуда было, если кто бывал в Одессе и знает, не так чтобы слишком далеко. Ассистенты у меня — дай Бог каждому таких, и подготовили все честь по чести: зал, матрасы, циновки и, конечно, вдоль стен вроде как по делу толпилось сильно много посторонних, потому что раз Аркаша привез, так это таки вещь. Но Лончик махнул рукой, и все ушли, кроме меня, конечно. И рюкзачок тоже оставили…
Когда мы остались втроем, он разделся до пояса, не торопясь, очень красиво, и я понял, что полным дебютантом его назвать никак нельзя: видимо, дома он много и упорно репетировал, если не выступал уже в аттракционах. И знаете, что самое интересное? На груди у парнишки оказалась татуировка! Я видел в жизни этих татуировок, я сам, можно сказать, весь разрисован, как картина Репина «Приплыли!», потому что когда-то тоже был молодой и глупый, но такое встретилось Топтунову, пожалуй, впервые. Попробуйте представить: гладкая кожа, выпуклые мышцы — и поверх всего синее тату, не самого лучшего притом исполнения: что-то вроде бесхвостого кота сидит на каком-то треугольнике. И вся эта радость блеклая-блеклая, словно кто-то ее вытравливал-вытравливал, да так и не вытравил и не придумал ничего лучше, как забить кота ярко-алым изображением придурочной птички, напоминающей хищную утку. Скажу по правде, самый дурацкий способ избавляться от татуировок — это зарисовывать их другими, тем паче что менять кота на утку вообще верх кретинизма.
И я спросил:
– Лончик, а Лончик, а что это у тебя?
Он посмотрел на меня, сощурился и ответил:
– Тот, кто породил меня, называл себя Тигром-с-Горы, а оказался драной кошкой. И огнеперая птица токон растерзала его.
– Ой! — огорчился я. — Так у тебя нет папы?
Понимаете, я ведь и сам вырос без отца, мама моя (святая женщина, не нам ее судить!) строгала нас, как буратин, не очень интересуясь, что будет дальше, и уж я-то знаю, каково это, когда растешь сиротой или все равно что сиротой, а мама говорит, что папа полярный летчик…
Но того, что сказал в ответ мой дебютант, я никак не мог ожидать; папы, конечно, бывают разные, и не всегда мы любим вспоминать про них, и порой даже мечтаем подрасти, найти и набить морду, но в том-то и дело, что мальчишечка злиться не стал, а ответил очень серьезно: