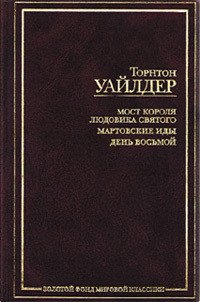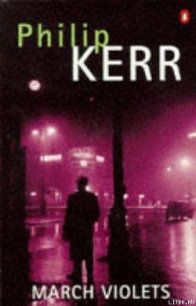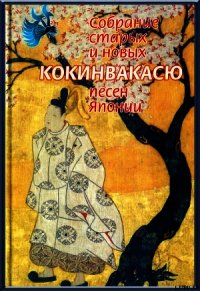Мартовские дни (СИ) - Старк Джерри (мир книг TXT) 📗
«Я самую малость, — уверил небо и землю Пересвет. — Мне бы это… с духом собраться».
Сойдя с дорожки, он осторожно проскакал по мягким, хлюпающим водой моховым кочкам, укрывшись за толстым стволом и раскидистыми колючими ветками старой ели. На ветвях горбатыми холмиками лежал рыхлый серый снег. То и дело какой-нибудь из холмиков со смачным хлюпаньем соскальзывал вниз. Освобожденная от снежной тяжести ветвь упруго распрямлялась, брызгая с игл крохотными радужными каплями.
Сыскав местечко посуше, царевич утвердился на нем и осторожненько высунулся. Павильон был виден, как на ладони: круглый стол из цельного березового наплыва, к нему такие же стулья с сафьяновыми подушечками да пара исходящих теплом бронзовых жаровен. Ёширо в темно-голубых одеяниях с узором из бледно-розовых цветов сливы и ивовых листьев шелестел раскиданными по столу листками бумаги. Выбрал подходящий, тщательно разгладил ладонью, занес тонкую кисточку и быстрыми взмахами изобразил что-то — может, один иероглиф, а может, многозначительные нихонские вирши из трех строчек.
Гардиано стоял рядом, упираясь ладонями в столешницу, и внимательно разглядывал листки с чернильными знаками. Был он сегодня во франкском дублете зеленого сукна с золотой нитью и ну совершенно не выглядел страдающим от вчерашнего похмелья. Вот сволота иноземная. Даже отросшую за ночь щетину успел соскрести. Налетевший с озера ветер нахально растрепал темные кудряшки ромея и боязливо дернул не совсем идеально уложенную прядку в конском хвосте принца Кириамэ.
— Там… там горы, — мечтательно протянул Гай. — Горы, уходящие под облака. Здесь — цветы. Кусачие такие цветочки, с потаенными клыками вместо лепестков. Это… это что-то вроде хижины в лесу, — он взял один из листков, повертел так и эдак, и кивнул собственной догадке: — Птичья стая летит над городом. Меч. Точно, меч. Ну, угадал хоть что-нибудь?
— Меч и горы, — Пересвет нахмурился, заметив, что из обширного запаса украшений Ёширо выбрал сегодня заколку в виде ирисов из драгоценной тархистанской ляпис-лазури. Ирисы — в цвет лукавых очей под длинными ресницами. Охмурить гостя вознамерился, что ли? Кириамэ такой, с него станется.
— Два из шести, — подсчитал на пальцах Гардиано. — Не так уж плохо, — он сцапал новый лист, осторожно помахал им в воздухе, чтобы поскорее высушить поблескивающие чернила. — Диковинный у вас алфавит, никогда такого прежде не встречал. Каждый символ — отдельная буква-литера или целое понятие?
— По обстоятельствам, — тонкая кисточка в пальцах Ёширо кружила над желтоватой бумагой, справа налево выписывая ровные столбики иероглифов. — Порой это действительно один звук, порой слово… а порой целый образ. Их произношение также меняется в зависимости от символов, расположенных по соседству, новой или старинной разновидности начертания… и от тысячи иных причин.
— И сколько насчитывается таких знаков?
— Лично мне известно пять тысяч иероглифов, но я еще не закончил своего образования, — сверкнул милой улыбкой Кириамэ.
— Свихнуться можно, — присвистнул ромей. — А некоторые еще полагают, что двадцать шесть букв — это многовато!
— Вы умудряетесь передать все свои мысли и познания всего двадцать шестью буквами? — поднял тонкую бровь Ёширо.
— У нас не так много мыслей, по скудоумию хватает, — хмыкнул Гардиано. — Хотя мои соотечественники обожают долго и многословно рассуждать на всяческие отвлеченные темы. Навроде стратегии и тактики, народного блага, наилучшего государственного устройства и того, как толковать статьи древних законов относительно сегодняшнего времени. Можно я еще спрошу?
— Можно, — милостиво дозволил нихонец. Допустив чудовищную ошибку и вызвав частый град настойчивых расспросов:
— Почему твои стихи такие короткие? Почему в них нет ни слова о человеческих чувствах — пусть не о любви к женщине или мужчине, но к престарелым родителям или отчизне? Почему не упоминаются ни гнев, ни ненависть, ни вдохновение, ни хотя бы радость? Почему всегда описывается что-то — восход солнца, дорога в тумане, падающие листья или тающий снег — но никогда не говорится, что испытывал сам пишущий? Ни в одном из твоих творений нет завершающего вывода, морали или назидания — только картины. Но они… они какие-то странные. Как будто, слушая, начинаешь видеть их наяву. Не ярко и четко, а как сквозь туманную дымку или пыльное стекло.
— Стихи о любви сочиняют женщины, — Кириамэ бережно и тщательно уложил кисточку на резную подставку. — Это единственное, что им близко и понятно, что идет от сердца — об этом они и говорят. Мужчины не разглагольствуют о чувствах — они укрывают их, прячут между строк. Читающий или слушающий должен сам додумать недосказанное и расслышать недоговоренное.
— Это, наверное, трудно, — нахмурился Гай.
— Нет, если с детства привык к подобной игре ума и творения. К тому же в стихах непременно кроется множество подсказок. У любого использованного образа есть древнее, всем известное толкование. Если упомянуто время года — значит, известна цепочка образов и мыслей, изначально связанных с этим сезоном. Время сбора урожая и подведения итогов, время цветения и поиска или одиночества зимой… — Ёширо сложил руки в широких рукавах и чуть повысил голос: — Поэтому твои стихи кажутся мне слишком крикливыми и откровенными. Пригоршня ярких, сверкающих, но безнадежно дешевых камешков, среди которых случайно завалялись две-три настоящих драгоценности.
Сейчас оскорбится до глубины души, удрученно подумал царевич, переступая с ноги на ногу и ощущая, как в сапоги потихоньку натекает вода. Обидится и наговорит Ёжику лишнего. Вспыльчивый нихонец тоже в долгу не останется… ой, быть беде.
— Наверное, так оно и есть, — не стал спорить Гардиано. — Я ведь тоже еще учусь. И пытаюсь учить. Тому, что благо отечества не всегда должно стоять на первом месте, что стоит порой заглядывать в собственную душу… что мужчины и женщины имеют разный взгляд на мир, и женский взгляд порой куда точнее и строже мужского. Что мужчины тоже не сходны промеж собой и мыслят по-разному.
— А что, твои соотечественники этого не знали? — то ли искренне удивился, то ли прикинулся безмерно удивленным Кириамэ.
— Не-а. Как-то было не до того. То грызня с соседями, то побоище в самом Городе, то опять враги напали и надо родину защищать. Не до душевных глубин и терзаний, в живых бы остаться. Мои соплеменники порой сами не ведают, что они испытывают, и каково подходящее название для их чувства.
— Знакомая история, — Ёширо поднялся из-за стола, белым лебедем проплыв к широким перилам террасы. Замер в неподвижности, и в этот краткий миг все вокруг — затянутый ноздреватым серым льдом пруд, черные деревья на берегу, ломкие стебли сухого рогоза — обычные вещи, существовавшие сами по себе, преобразились. Обрели совершенность и законченность. Как последний взмах кисти, вычертившей иероглиф и замкнувшей обрамление тонкой фигуры в разлетающихся одеяниях цвета полевой горечавки. Кириамэ был именно тем, что гармонично дополнило сияние лазурного неба и солнечное ликование весеннего дня — и от этого становилось хорошо и больно до слезной рези в глазах и ломоты в сердце.
Принц как-то рассказывал, что рисовальщики в Нихонии особенно ценят в натурщиках таких особ, которые прекраснее всего стоящими вполоборота. Бросая рассеянный и тревожащий взгляд через плечо, как сейчас Кириамэ.
«Мне позарез нужны слова, чтобы высказать Ёжику это все, — Пересвет невольно шмыгнул носом. — Но своих мне недостает. Слова, что есть у Гардиано, подходят гораздо больше… пусть они и горят, как битые стекляшки на солнышке. Они верные, эти слова. Я знаю. Как и то, что у этих двоих слишком много общего».
Последняя мысль испугала и встревожила. Настолько, что Пересвет решительно попятился из-под елового укрытия. Успев заметить, что Кириамэ спокойно рассматривает сверкающий под солнцем лед на озере, а Гай неловко сгорбился над столом и черкает пером прямо на листке с иероглифической вязью.
Добравшись до деревянной дорожки, царевич зашагал к павильону, как можно громче топоча каблуками по проседающим доскам. Даже напевать начал — фальшиво, но достаточно громко, чтоб издалека расслышали. Улыбку выкроил во все белые зубы. Мол, вот он я, молодец простой и незамысловатый, ни о чем не подозревающий. Позабывший все, что было вчера.