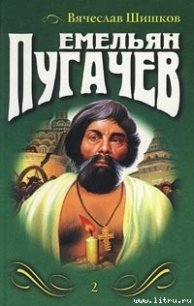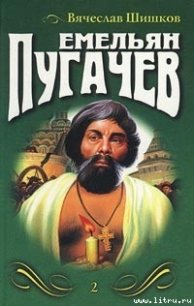Емельян Пугачев. Книга 1 - Шишков Вячеслав Яковлевич (прочитать книгу .txt) 📗
— Григорий Григорьич, помолчи, — ничуть не осердясь и даже со снисходительной улыбкой проговорила Екатерина. Нарядный изумрудный фермуар, как бы подчеркивая ее благодушное настроение, празднично блестел на жемчужном ожерелье. — Господа, приглашаю вас прислушаться, — она заглянула в свою записную книжечку. — Вам ведомо, что финансы моей империи очень далеко не блестящи. По вступлении моем на престол я нашла их слишком расстроенными. Монетный двор, со времен царя Алексея Михайловича, считал денег в обращении сто миллионов золотой и серебряной монетой, из коих сорок миллионов вышедшими из империи за границу. Нам, господа, надлежало бы подумать о выпуске в обращение бумажных денег. Блаженной памяти государыня Елизавета во время прусской войны искала занять три миллиона в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, сиречь кредита или доверия к России не было. Вот, господа, очень, очень кратко — как было. Прошлый год мы государственный бюджет заключили без убытка, зато нынешний год доходы казны упали с девятнадцати миллионов в прошлом году до десяти миллионов. Сие очень нетерпимо. Мы чересчур расходчивы. А надо, чтоб какова одежка, так и ножки протягивать. У нас одежка очень слишком коротка, а ножки чересчур длинные. А надлежит как раз наоборот…
— Ежели наоборот, матушка, то одежка-то со шлейфом получится, — оправляя золотой камергерский ключ, укрепленный на голубой ленте у левого бедра, попробовал сострить Григорий Орлов.
Екатерина опустила веки с длинными ресницами и, подавая знак к молчанию, побрякала о край чашки ложечкой.
— О господа, как бы я желала, — воскликнула государыня, распахнув и снова сложив веер, — как бы я желала видеть истинное лицо моего отечества, познать нужды народа своего! Хочу много, много ездить по России.
— Знаешь что, матушка, — пробасил Григорий Орлов и, поднявшись, огромный и статный, подошел к маленькой в сравнении с ним Екатерине, нагнулся, бесцеремонно положил руку на ее плечо, сказал:
— Уж ежели путешествовать задумала, так надлежит тебе, матушка, у какого-нито кудесника шапку-невидимку добыть. А то тебе, матушка, такое напоказывают, что и впрямь подумаешь: ахти, как хороша да богата Россия, — он чмокнул Екатерине руку и стал вышагивать по лионскому ковру.
Стало тихо, все сидели, как истуканы, всех шокировало поведение зазнавшегося фаворита. Бесшабашный, недалекий Григорий Орлов даже при посторонних вел себя с Екатериной без всякого стеснения, как муж.
Пикируясь с ней, он иногда позволял себе говорить по ее адресу колкие грубости. В его голосе звучали нотки человека, знающего цену своего влияния на любимую женщину, которая готова все простить ему. Он как бы кичился пред другими своим положением избранника сердца государыни.
Екатерина великодушно сносила поведение Орлова, стараясь обращать в шутку его грубоватые выходки. Ее ум и воля в эти минуты подчинялись чувству: она самозабвенно любила его. Однако посторонних сановников от таких интимных сцен внутренно коробило. А Никита Панин в подобных случаях, ядовито улыбаясь, думал: «Ну, слава богу, что в фаворитах Гришка Орлов. Фаворит с умом и достоинством был бы мне более опасен».
— Если дозволено будет вашим величеством, — проговорил, поклонясь, сидевший вблизи Екатерины граф Сиверс, — я мог бы доложить вам о некоторых глухих уголках нашего отечества.
— Ах, прошу вас, милый Яков Ефимыч! Я вас полагаю за очень просвещенного, очень деятельного человека. Я вас слушаю… Одна минутка, одна минутка! — и, позвонив в колокольчик, она велела дежурной фрейлине подать ей рабочую корзиночку. Вынув начатое вязанье, три клубка разноцветной шерсти и костяные спицы, она приготовилась вязать теплый на зиму капотик своей любимой собачке, дремавшей у нее на коленях.
Олсуфьев, Черкасов и Роман Воронцов бросились к столу, за которым сидела Екатерина, чтоб поближе к ней поставить горящие канделябры, но Григорий Орлов, подлетев, ловко отстранил услужливых царедворцев и сам передвинул канделябры. Екатерина поблагодарила его улыбкой, спицы в ее проворных руках заработали, шерстяные клубки зашевелились.
— Итак, — начал молодой, полный сил граф Сиверс, одернув свой скромный темно-синего сукна кафтан. — Повелением и милостью вашего величества я с прошлого года состою в должности начальника обширнейшей Новгородской губернии, в кою входят провинции Олонецкая, Тверская, Псковская и Великолуцкая. Я объехал многие города и селения, и моему взору везде представала картина наипечальнейшая. Взять Псков. По своему красивому и удобному для торговли положению он мог бы быть в ином состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов, ваше величество, для выражения моих чувств о разорении этого города! Скажу одно: он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает той же чахоткою. Солдаты — коих два полка — казарм не имеют, живут в домах обывателей, чрез что обыватель справедливо ропщет. Как в одном, так и в другом городе почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные: нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось.
На тонком лице Екатерины отразилось удивление, брови ее приподнялись, спицы в холеных руках остановились. После паузы Сиверс продолжал:
— В судах повсеместно взяточничество, неимоверная волокита. В Новгороде из трехсот просьб решаются в год по два, по три дела. Каменный дом провинциальной канцелярии во Пскове развалился, воеводского двора вовсе нет, и воевода живет в таком ветхом доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Город Осташков — сущая деревня, в воеводском доме только сороки да вороны, ни площади, ни лавок я не нашел. В Холме больше тысячи душ, и только один человек умеет писать…
— Да неужели?! — воскликнула императрица.
— Увы, сие так, — развел руками Сиверс. — Своей монархине докладываю истину.
— Срам-срам, — пристукнула каблучком императрица. — Ну а крестьяне?
— О крестьянстве должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид. А кроме сего — земля обрабатывается самым первобытным способом, она плохо удобряется, урожаи ничтожны. Не в меру притесняемые помещиками крестьяне нищают. На крестьян помещики накладывают какой угодно оброк и требуют с них какой угодно тягчайшей работы.