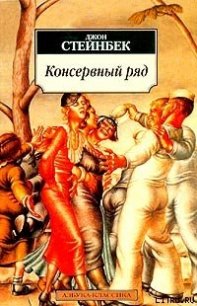Гроздья гнева - Стейнбек Джон Эрнст (серии книг читать бесплатно txt) 📗
— Тебя солнечный удар хватит, расхаживаешь по такой жаре, — сказал Том.
Кэйси ответил:
— Да… может, и хватит. — Потом вдруг заговорил, обращаясь сразу ко всем — к матери, к деду, к Тому: — Мне тоже надо на Запад. Мне обязательно туда надо. Может, вы возьмете меня с собой? — И он смущенно замолчал.
Мать выжидающе посмотрела на Тома, потому что ему — мужчине — полагалось говорить первому, но Том ничего не ответил проповеднику. Дав Тому достаточно времени, чтобы воспользоваться своим правом, она сказала:
— Для нас это большая честь. Конечно, сейчас я ничего не могу обещать. Отец сказал, что сегодня вечером мужчины соберутся, все обсудят и назначат день отъезда. Давайте лучше подождем. Джон, отец, Ной, Том, Эл, Конни — вот кому решать. Они скоро вернутся. Но если место будет, для нас это большая честь.
Проповедник вздохнул.
— Я все равно пойду, — сказал он. — Что здесь делается? Я походил, посмотрел — дома пустые, и земля пустая… везде пусто. Я тут больше не останусь. Пойду туда, куда все идут. Буду работать в полях, может, успокоюсь.
— А проповедовать не будешь? — спросил Том.
— Проповедовать не буду.
— И крестить не будешь? — спросила мать.
— И крестить не буду. Я буду работать в полях, в зеленых полях, буду все время с людьми. Учить их я больше не хочу. Лучше сам поучусь. Узнаю, как они любят, прислушаюсь к их словам, шагам, к их разговорам, к песням. К тому, как ребятишки уплетают маисовую кашу. Как муж с женой возятся по ночам. Буду есть вместе с людьми, буду учиться у них. — Глаза у него были влажные, блестящие. — И сам буду валяться в траве с той, кто пожелает со мной лечь, и не стану скрывать это. И сквернословить буду, и божиться, и слушать музыку, которая есть в людской речи. Теперь я понял, что все это свято, и теперь все это будет со мной.
Мать сказала:
— Аминь.
Проповедник скромно сел в холодке у двери.
— Не знаю, что еще делать одинокому человеку.
Том вежливо кашлянул.
— Если человек решил больше не проповедовать… — начал он.
— Э-э! Я просто болтун, — сказал Кэйси. — От этого никуда не денешься. Но проповедовать я больше не буду. Проповедовать — это значит что-то втолковывать людям. А я жду, что они сами ответят на мои вопросы. Разве так проповедуют?
— Не знаю, — сказал Том. — Тут и голос имеет значение, и то, к чему ты клонишь в своей проповеди. Проповедь дело хорошее, если только после нее людям не захочется убить тебя. Прошлым рождеством пришли к нам в Мак-Алестер из Армии спасения. Три часа битых играли на корнетах, а мы сидим слушаем. Обращались с нами ласково. А попробуй кто-нибудь встать и уйти, рассадили бы всех по одиночкам. Вот тебе и проповедь! Ублажали людей, которые связаны по рукам и по ногам и не могут им всыпать как следует за их проповедь. Нет, какой же ты проповедник. Смотри только, не вздумай тут на корнете играть.
Мать подбросила хворосту в огонь.
— Сейчас дам вам закусить, только не очень у меня богато.
Дед вытащил свой ящик во двор, сел на него и прислонился к стене, Том с проповедником устроились у стены. И тень, падающая от дома, протянулась дальше во двор.
Грузовик вернулся к концу дня, подскакивая и громыхая по пыльной дороге; на платформе густым слоем лежала пыль, и капот был покрыт пылью, а фары точно запорошило красной мукой. Когда он подъезжал к ферме, солнце уже садилось, и в его лучах земля была красная, как кровь. Эл сидел за рулем, гордый, серьезный и деловитый, а отец и дядя Джон, как и подобало вожакам клана, занимали почетные места рядом с водителем. Стоя на платформе и держась за борта, ехали остальные: двенадцатилетняя Руфь и десятилетний Уинфилд — чумазые, дикие. Глаза у них, хоть и усталые, горели восторгом, губы и пальцы были черные и клейкие от лакричных леденцов, которые удалось выклянчить в городе у отца. Руфь, в розовом кисейном платье ниже колен, держалась с достоинством, как барышня. Но Уинфилд все еще не вышел из того возраста, когда мальчишки бегают сопливые, подолгу пропадают где-нибудь позади сарая и не пропустят ни одного окурка. И тогда как Руфь с полным сознанием ответственности, налагаемой на нее полом, гордилась своей развивающейся грудью, Уинфилд все еще был маленьким сорванцом, смахивавшим на глуповатого щенка. Рядом с ними, легко опираясь о борт машины, стояла Роза Сарона. Она приподнималась на носках, стараясь принимать толчки грузовика коленями и бедрами. Ибо Роза Сарона была беременна и считала нужным соблюдать осторожность. Ее пепельные волосы, заплетенные в косы, короной лежали вокруг головы. На округлом мягком лице, таком чувственном и влекущем каких-нибудь несколько месяцев назад, уже появилась печать беременности: самодовольная улыбка и взгляд уверенный и гордый; и ее полное тело — высокая мягкая грудь и живот, зад и крутые бедра, которые раньше так соблазнительно покачивались, словно напрашиваясь на шлепки и поглаживание, — все ее тело обрело сдержанность и достоинство. Каждый помысел Розы Сарона, каждое движение были устремлены внутрь, на благо ребенка. Сейчас она привставала на носки, заботясь о ребенке. И весь мир казался ей материнским чревом, и мыслила она в терминах продолжения рода и материнства. Ее девятнадцатилетний муж, Конни, взявший в жены пухленькую, горячую девчонку, все еще с испугом и недоумением присматривался к происшедшей в ней перемене, потому что теперь уже не было ни кошачьей возни в постели, ни кусанья, ни царапанья, ни приглушенных смешков, ни заключительных слез. Он видел перед собой уравновешенное, заботливое и мудрое существо, улыбавшееся ему застенчиво, но отнюдь не робко. Конни гордился Розой Сарона и побаивался ее. Он ловил малейшую возможность, чтобы дотронуться до ее тела, стать рядом и коснуться ее бедра, плеча, и это поддерживало в нем чувство близости, которое, быть может, уже начинало исчезать. Конни был техасской крови — худощавый, с резкими чертами лица, и его голубые глаза смотрели то угрожающе, то ласково, то испуганно. Он был хороший, добросовестный работник и мог бы стать впоследствии хорошим мужем. Он выпивал, но не слишком много; пускал в дело кулаки, если это было нужно, но сам никого не задирал. На людях он держался тихо, тем не менее его присутствие чувствовалось, и с ним считались.
Дядя Джон — не будь ему пятидесяти лет и не занимай он положения главы семьи наравне с другими мужчинами — предпочел бы отказаться от почетного места рядом с шофером. Он с удовольствием уступил бы его Розе Сарона. Но это исключалось, потому что Роза Сарона была женщина, к тому же молодая. И дяде Джону было не по себе, его глаза тоскливо смотрели по сторонам, в сильном худом теле чувствовалось напряжение. Одиночество стеной отгораживало его от людей, от нормальных людских потребностей. Ел он мало, не пил, жил вдовцом. Но неутоленные страсти зрели, накапливались в глубине и наконец прорывались наружу. Тогда он с жадностью накидывался на еду и обжирался до рвоты; или глушил виски, превращаясь в расслабленного паралитика с красными слезящимися глазами; или путался с какой-нибудь шлюхой в Саллисо. Про него рассказывали, будто он однажды дошел до самого Шоуни, уложил сразу трех проституток в одну постель и в течение часа возился с этими тремя равнодушными телами. Но, насытившись, дядя Джон ходил грустный, пристыженный и по-прежнему одинокий. Он прятался от людей и пытался искупить свою вину хотя бы подарками. Тогда он заходил украдкой в дома и совал детям под подушки пакетики жевательной резинки. Тогда он рубил хворост и не брал за это денег. Тогда он раздавал другим все, что у него было: седло, лошадь, пару новых башмаков. Поговорить с ним в эти дни никому не удавалось, потому что он убегал, а если волей-неволей и сталкивался с людьми, то замыкался в себе и смотрел на них испуганными глазами. Смерть жены и последовавшие за этим долгие месяцы затворничества наложили на него свою печать; дядю Джона мучили угрызения совести, стыд, и одиночества его ничто не могло нарушить.
Но кое с чем ему все же приходилось мириться. Хотя бы с тем, что он наравне с остальными мужчинами считался главой семьи, а семьей надо править; и вот сейчас надо сидеть на почетном месте рядом с шофером.