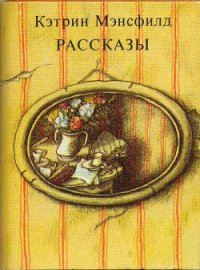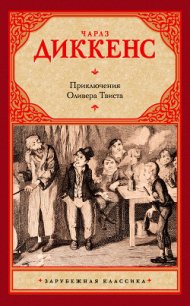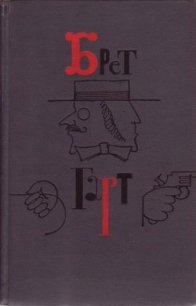Избранное в 2-х томах (Том 1, Повести и рассказы) - Друцэ Ион Пантелеевич (читать книги бесплатно TXT) 📗
Лев Николаевич, перелистывая старый альбом, думает: "Надо бы как-то включить в завещание, чтобы из дневников моей молодости выбрали для печати только то, что может представлять интерес, выбросив все дрянное, что там есть. А впрочем, пускай дневники остаются такими, какие они есть. Из них по крайней мере видно, что, несмотря на всю пошлость моей молодой жизни, я все-таки не был оставлен богом и хоть под старость начал понимать и любить его".
Душан Петрович, сидевший рядом с Татьяной Львовной, сказал:
- Я очень люблю письма Льва Николаевича к Александре Андреевне.
Чтобы доставить всем удовольствие, Татьяна Львовна быстро нашла одно из тех писем:
- "Милая бабушка, зачем вам мои письма! У вас там в Петербурге много хорошего, а вот я - это другое дело. Я приду из деревни после толкования мужикам о том, что не только в кровь не надо бить друг друга, но не надобно и просто драться; или растолкую соседям, что в наше время помещикам не следует насильно выдавать девиц замуж!.."
Софья Андреевна вставила реплику:
- Лев Николаевич красуется перед ней, показывая свою лучшую, художественную сторону.
Татьяна Львовна выждала, не последуют ли еще какие замечания, и продолжала:
- "Впрочем, есть и у меня прелестное дело, от которого нет сил оторваться, - это моя школа. Нельзя рассказывать, что такое крестьянские дети, - их надо видеть. В нашем милом сословии я таких детей не видал. Подумайте - в продолжение двух лет и ни одного наказания. Никогда лени, грубой шутки, неприличного слова. Дом школы почти отделан заново, и стоит мне войти в это помещение..."
Лев Николаевич оставил альбом с фотографиями. Слушает очень внимательно, и его старческое лицо озаряется - он видит себя молодым, видит себя в окружении детворы Яснополянской школы, но вдруг открывается дверь, и входит старый, чудаковатый человечек. Стоит нелепо у дверей, и, когда Татьяна Львовна на минуту прерывает чтение, чтобы выяснить, что ему нужно, фотограф говорит Софье Андреевне:
- Мадам, я прошу прощения за свое вмешательство, но после полудня солнце слабеет, и уже после пяти часов я не смогу поручиться за качество снимков.
Лев Николаевич вспыхнул:
- Кто этот человек и о чем речь?
Старик фотограф решил, что по этикету он должен сам представиться. Долго, неуклюже раскланивался и сказал:
- С вашего позволения, Лев Николаевич, я Шапиро, фотограф из Петербурга. Лучшие писатели России, во всяком случае все те, кого мне удалось застать в живых, сфотографированы мной. Из этих фотографий я намерен создать альбом, своеобразную документальную галерею...
- Так! Галерею, стало быть! А почему не батарею, почему не эскадрон?
Софья Андреевна быстро встала, подошла, села рядом с Львом Николаевичем и сказала ласково:
- Левочка, ради бога, не волнуйся. Я пригласила фотографа сделать несколько снимков в годовщину нашей свадьбы и почти была уверена, что ты не откажешь...
К несчастью, у Шапиро была слабость входить в близкие отношения со всей своей клиентурой.
- Если не секрет, мадам, я хотел бы знать, сколько ровно лет тому назад...
Софья Андреевна смерила его грозным взглядом:
- Мы с вами, кажется, условились, что вы установите там свою аппаратуру и будете ждать...
Когда Шапиро вышел, Лев Николаевич заявил решительно:
- И не подумаю стать перед аппаратом. Фотографирование меня всегда угнетает.
- Левочка, да сколько это длится! Минута, не больше минуты.
- Тут дело не во времени, а в моем отношении к этому делу. К тому же у нас и так полон дом моих старческих фотографий! Что изменится, если к ним прибавится еще одна фотография бородатого деда?
Андрей Львович сказал с достоинством:
- Многое изменится. В печати давно пишут о разногласиях в нашем доме, и печатание фотографии о только что отпразднованной годовщине свадьбы...
Лев Николаевич был вне себя от возмущения:
- Так это еще и для печати! Ну этого только нам и недоставало. Устраивать в Ясной концертные представления для успокоения публики!
Софья Андреевна попросила:
- Левочка, если не хочешь сделать это ради меня, то сделай хотя бы в память того милого существа, которое мы оба так любили. Если б он был жив, мы бы его наверняка взяли с собой и сфотографировались бы втроем...
Толстой отошел в угол и, отвернувшись от всех, долго успокаивал себя. В эти минуты он бывал трогателен, чем-то похож на ласкового, послушного ребенка. Вот он наконец пересилил себя, чуть-чуть улыбнулся, молча кивнул.
Софья Андреевна встала.
- Спасибо, друг мой.
И, направившись к выходу, попросила сына:
- Идем. Ты станешь за Льва Николаевича, чтобы фотограф смог хорошо нацелить аппарат, а Лев Николаевич потом прямо станет на твое место, и снимок будет сделан.
Все ушли смотреть, как фотограф будет перед домом нацеливать аппарат, остался только Лев Николаевич с Булгаковым. Лев Николаевич спросил его тихо:
- Скажите, Валентин Федорович, как вы переносите эти позы перед аппаратом? Я, знаете ли, едва удерживаюсь, чтобы не выкинуть штуку какую-нибудь - задрать ногу или высунуть язык...
Булгаков улыбнулся.
- По-моему, это испытывает каждый нормальный человек, ставший перед аппаратом. Свободолюбивый наш дух не терпит гнета этих железных конструкций.
- Вы думаете? Вы уверены, что и Софья Андреевна чувствует то же самое?..
- Насчет Софьи Андреевны я не могу поручиться...
Тем временем вошел Шапиро и, низко поклонившись второй раз, сказал:
- Ваше сиятельство, все готово.
- Да не надо так низко кланяться, это я и сам умею.
- Прошу прощения...
- Да нет же, это я должен перед вами извиниться, что не очень вас приветливо встретил. Вы простите меня великодушно. То, что я говорил, относилось не к вам и не к вашему ремеслу, а сказано было совершенно по другому поводу.
Старик фотограф был готов к примирению:
- О, не стоит беспокоиться! Мы, фотографы, так же как и врачи, умеем хранить семейные тайны. Это наш профессиональный долг.
Толстой был несколько удивлен таким заявлением.
- Вот как! А что, вы хороший к тому же фотограф?
- Мне неудобно самого себя представлять, но мои снимки украшают лучшие дома русской знати, не говоря уже об иллюстрированных журналах...
У Толстого была какая-то мысль, связанная с этим делом, и он хотел ее выяснить, но долго не мог припомнить, в чем она заключается. Потом, у самых дверей, вспомнил:
- Скажите, а что вы думаете по поводу цветной фотографии? Возможно ли снять такую открытку, чтобы на ней сохранить цвет волос и глаз, и вообще цвет окружающей природы?
Старик фотограф еще раз поклонился; на этот раз у него получилось совсем хорошо.
- Я надеюсь сам дожить до того времени, и поверьте моему слову, что первый цветной снимок в России...
Толстой открыл двери, сказав сухо:
- Нет, не нужно. Я вряд ли доживу до того времени. К тому же, сказать по правде, я совершенно не верю в цветную фотографию. Чертков мне многое рассказывал об этом, но я не верю. Этого не может быть, нет.
Они вышли, Перед барским домом собралось довольно много народу: и гости, и дворовые, и нищие, и богомольцы. Софья Андреевна всем улыбалась, кланялась, и этот театр опять вывел Толстого из себя. Он встал рядом с Софьей Андреевной. Она его любовно взяла под руку, она была ласкова и добра, а он стоял усталый, сердитый, и старик фотограф так и запечатлел эту чету на сорок восьмом году после свадьбы, и это стало последней фотографией Толстого.
Весь тот день волк пролежал, не шелохнувшись, на голых скалах. Он сливался по цвету, по контуру со скалами, он, казалось, сросся с ними, став такой же скалой, по какая-то маленькая частица его существа все еще надеялась, ждала чуда, потому что такова природа всего сущего. Когда все пройдено, потеряно, проиграно, тогда ждут чуда. Бывает, оно и заявится, но редко, крайне редко; что до волков, то к ним оно вообще дорогу позабыло. Рассчитывать приходилось только на себя. В сумерках, открыв глаза, он увидел внизу под собой пропасть и долго, завороженно смотрел, как она заполняется сумерками, как тает в темноте, и эта пропасть стала последним окном в его угасающей жизни.