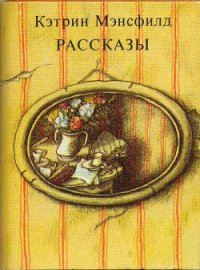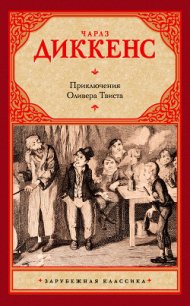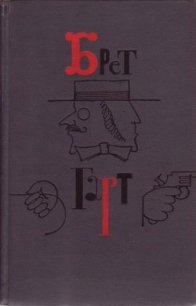Избранное в 2-х томах (Том 1, Повести и рассказы) - Друцэ Ион Пантелеевич (читать книги бесплатно TXT) 📗
В Шамордине они с Маковицким и приехавшей к ним Александрой Львовной жили в небольшой гостинице. Вернувшись от сестры, он застал дочь Сашу вместе с Маковицким сидящими за развернутой картой. Они выглядели оба усталыми, угнетенными, и, когда Толстой вошел к ним, Маковицкий сказал, расправляя уголки карты:
- Если ехать, то по крайней мере нужно знать куда.
Всю свою жизнь Толстой остерегался составлять какие-либо планы. Он был реалистом, он жил сегодняшним днем, сиюминутными проблемами, и самое большое, что он мог себе позволить, - это прикинуть объем работы на будущий день, и то под этими наметками непременно добавлял три буквы - "е.б.ж.", то есть "если буду жив". Но теперь делать было нечего, посидели втроем, погадали о достоинствах и недостатках тех или иных краев.
- По-моему, - сказала Александра Львовна, - нужно ехать в Бессарабию. Тамошние толстовцы...
- Саша, милая, - сказал Лев Николаевич. - Я не толстовец. Я Толстой. Пошли спать. Утро вечера мудренее.
В полночь, задолго до рассвета, он разбудил Маковицкого и Александру Львовну:
- Пора ехать.
Почему-то нужно было ехать срочно, тотчас же, и в этой большой спешке они уехали из Шамордина, даже не успев проститься с Марьей Николаевной.
Как только сели в поезд, выяснилось, что у Льва Николаевича высокая температура, он то засыпал, то просыпался и в жару повторял все время:
- Удрать... Удрать, а то догонят...
Они ехали на юг, надеясь добраться хотя бы до Ростова, но Льву Николаевичу становилось совсем плохо. Пришлось сойти на первой же станции. И поскольку она была битком набита, больного старика ввели в дамскую комнату, и дамы, поправлявшие перед зеркалом шляпы, были крайне удивлены появлением бородатого и задумчивого старца. Послали за доктором, станционный доктор привел начальника станции. Ехать дальше было невозможно, но и уложить больного писателя было некуда, и тогда начальник станции предложил Толстому свой дом. Старый художник принял это приглашение, и таким образом никому не известная станция Астапово стала в один вечер всемирно известным центром России, и на протяжении целой недели мир жил новостями, помеченными названием этого забытого богом уголка.
Медленно, грузно и как бы нехотя стала приходить в движение огромная николаевская империя. Две силы, два полюса, два враждебных мира более полувека существовали бок о бок. Но вот настал день, когда обыкновенные житейские невзгоды, и старость, и жажда истины, и вечный поиск, на который осужден художник, заставили одно из этих государств, под именем Льва Толстого, перейти границы другого и углубиться на его территорию.
Еще не вся прислуга Ясной Поляны знала об уходе барина, еще сама Софья Андреевна ничего об этом не ведала, а телеграмма об уходе Толстого уже лежала на столе главы правительства Столыпина. Из Петербурга немедленно последовал приказ, объявляющий боевую тревогу, и три генерал-губернатора, на чьих территориях разыгрывался последний акт яснополянской драмы, вступили в беспрерывную телеграфную связь меж собой. Что только не выстукивал телеграф в те дни, какие только запросы не летели из сердца России в центр и обратно! Ну, например, как быть с тем, что Толстой покинул Ясную Поляну, не прихватив с собой паспорта? Ибо, путешествуя без документа, Толстой таким образом нарушал установленный паспортный режим. Были выдвинуты две альтернативы: либо разрешить беспаспортному старцу продолжить путешествие, либо вернуть его силой на постоянное местожительство. После долгих консультаций рязанский губернатор разрешил в виде исключения проживание на станции Астапово больному беспаспортному писателю.
Другой не менее важный вопрос: кто дал право?! Генерал Львов запрашивает телеграфно ротмистра Савицкого, имевшего постоянное пребывание на станции Астапово: "Кем разрешено Толстому пребывание казенном станционном помещении, не предназначенном для помещения больных? Губернатор требует принять меры отправления лечебное заведение или место постоянного жительства". Ротмистр лопочет в ответ: болен же, а другого помещения, кроме казенной квартиры, нет...
На третий день болезни Толстого губернаторы уже стали шифровать свои телеграммы. Калужский губернатор запрашивает рязанского: 252 4325 8301 319 246 427 64 7563852... После революции, при расшифровке, эти цифры обрели следующий смысл: "Если нужна помощь для поддержания порядка, могу выслать городовых и стражников". В ответ последовало уже без шифра: "Ждем в Астапово с оружием и патронами..."
Сначала небольшие подразделения, а затем целые полки стали подтягиваться к станции Астапово. Они стояли в близлежащих населенных пунктах, готовые, если вдруг глубокая боль всколыхнет сердце России и она снимется с места, чтобы проститься с останками этого великого старца, встать на ее пути.
А в это время Лев Николаевич лежал в домике начальника станции, умиляя всех своей послушностью и аккуратностью. Сам себе мерил температуру, вел учет принятых лекарств. Эта его доброта прямо нервировала врачей, мешая им хладнокровно исполнять свои обязанности. После первой же ночи, чуть отдохнув, он подозвал к себе зареванную Александру Львовну, чтобы спросить:
- Ну что, Саша?
- Да что же, нехорошо вот...
- Не унывай, - сказал Лев Николаевич, - в мире много хороших людей, а вы все Лев да Лев...
Температура то падала, то снова поднималась к сорока градусам. Врачи установили двустороннее воспаление легких. Съехалась семья, приехал Чертков, на станции дежурили корреспонденты крупнейших газет. Однажды в бреду Толстой заметил под головой свою яснополянскую подушку и спросил, как она попала на станцию Астапово. От него скрывали, что съехалась семья, чтобы излишне не волновать его и без того слабое сердце, но из-за подушки пришлось сказать, что приехала Татьяна Львовна. Он попросил, чтобы она пришла к нему, и, когда она вошла, он сказал восхищенно:
- Какая ты сегодня нарядная, авантажная...
А между тем состояние его ухудшалось с каждым часом. Пришлось вызвать из Москвы еще двух профессоров - Шуровского и Усова, и телеграфный центр, установленный по распоряжению правительства на станции Астапово, круглосуточно отстукивал во все концы мира: Толстой жив, Толстой жив, Толстой жив. Пульс, дыхание, температура. Подписи - Маковицкий, Никитин, Шуровский, Усов, Беркенгейм. Через два часа новый бюллетень, и опять новая серия телеграмм: Толстой жив. Пульс, дыхание, температура. И опять подписи знаменитых профессоров, а между тем всему миру было ясно, что жизнь Толстого угасает.
Стоит глубокая, холодная ночь, последняя ночь Толстого. Ему в жару, должно быть, привиделся Делир, он слышит топот его копыт, он хочет осадить коня, направить на верный путь, но его милый и послушный Делир впервые в жизни сорвался, несет старого графа бог знает куда, и Толстой стонет, мечется на маленькой железной кровати... В уголке за столиком сидит Александра Львовна. Вдруг Лев Николаевич утих. Эта тишина обманула ее. Она начала подремывать, как вдруг в ужасе проснулась. Больной, спустив ноги с кровати, пытался встать, и она кинулась к нему:
- Да нет же, врачи запретили тебе подниматься с постели.
- Мне надо уйти. Мне непременно надо уйти.
Лев Николаевич стоит на слабых ногах, отчитывая дочь:
- Ты не смеешь, ты не должна меня силой удерживать...
В домике поднялся переполох. Прибежали Чертков, доктор Никитин, Душан Петрович и Татьяна Львовна. С трудом уложили больного, впрыснули камфару. Лев Николаевич на время утих, и когда все решили, что он уснул, и начали тихо выходить, он вдруг поднял слабую руку. Подозвал Черткова к себе, попросил еле слышным голосом:
- Голубчик, я уже два дня ничего не правлю, и накопилось много незавершенной работы. Как бы мне выправить рукопись...
Чертков, наклонившись, спросил:
- Какую рукопись вы имеете в виду?
Толстой передохнул, потом сказал:
- Все равно какую. Я ведь последние два дня не переставая диктую.
Чертков подошел к Александре Львовне. Та подняла руки вверх, доказывая, что ничего нет. Прошептала: