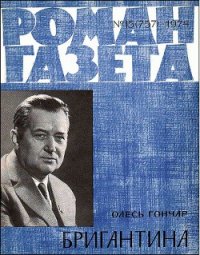Таврия - Гончар Олесь (первая книга .txt) 📗
— Лес… степь… море…
В задумчивости стояли они рядом, и каждый по-своему представлял себе то, чего никогда не видел.
— Давайте лучше грачиные гнезда драть, — сказал Данько после молчания. Спутники его поддержали.
Это было, наконец, настоящее дело! Даньку давно уже не терпелось махнуть на какую-нибудь верхушку дерева повоевать с грачами. Они, разбойники, должны были заранее дрожать перед Даньком, перед его железной натурой, закалявшейся в беспрерывных войнах с воробьями! Когда он, ударив картузом оземь, метнулся, как кошка, на самый высокий вяз, Светлана раскрыла ротик и застыла в величайшем удивлении: ей казалось, что этот лесной Данила, карабкаясь все выше и выше, каждый раз выпускает когти из рук и ног.
Наделал шума Данько на всю Асканию! Растревоженные грачи вскоре подняли над парком такой страшный галдеж, что сбежались сторожа.
Переговоры с ними взяла на себя Светлана.
— Он грачей дерет, — объяснила она с достоинством. — Ему папка разрешил.
До самого вечера встревоженно галдели грачи над парком, с треском и хрустом летели вниз их гнезда, шлепаясь о землю, а Данько ходил по верхушкам, где-то под самым небом качался на ветвях, весело выделывал там опасные фигуры, перекликаясь с Валериком и Светланой, смотревшими нашего снизу, как на чертенка.
Утро в воскресенье выдалось удивительно чистое, налитое прозрачным солнцем. Необъятная степь шумела и шумела впереди ковыльными шелками — то молочными, то золотистыми, то со стальным отливом.
Шли они втроем, взявшись за руки, в ту сторону, где, по их мнению, должно было быть море, которое представлялось каждому из них по-разному.
Степь цвела. Нетронутая, испокон веков не паханная, высокотравная…
Что это было за зрелище! Обладая красотой моря и его величием, блеском и обилием света, тая в себе могущество леса и его тихие, вековые шумы, степь, кроме того, несла в себе еще нечто свое, неповторимо-степное, свойственное только ей, — шелковую ласковость, что-то нежное, мечтательное, девичье…
Ковыли, ковыли, ковыли… Вблизи тускло-стальные, а дальше, под солнцем — сколько хватает глаз — сияющие, как молочная пена. Перекатываются легкими волнами, плывут, разливаясь, до самого неба…
Благословенная тишина вокруг. Лишь зашуршит где-нибудь сухая зеленая ящерка, пробегая в траве, брызнут в разные стороны из-под ног скакуны-кузнечики, да жаворонки журчат в тишине, пронизывая ее сверху вниз, невидимые в вышине, как ручейки, что текут и текут без устали, прозрачные, родниково-звонкие. Кажется, поет сам воздух, поет марево, которое уже поднимается и струится кое-где над ковылями. Может, и эта плывущая, мечтательная степь тоже только марево, которое проплывет и исчезнет? Нет! Каждый стебель впился корнями в сухую, местами уже потрескавшуюся землю; окунешься по пояс в золотистые, слегка покачиваемые ветром шелка, и они не исчезают, а остаются; бредешь в этих шелках среди птичьего щебета и чувствуешь на душе, очищенной от всего горького, только отстоявшуюся радость, только освобожденное от всяких пут небесно-легкое счастье. Раскрываешься душой для самого лучшего, досягаемого и недостижимого, распускаешься навстречу самому морю, что вот-вот брызнет из-за горизонта, из-за ковылей.
Мягкие, пушистые метелки ковылей ласкают руки, касаются щек. Плывут стройные цветущие стебли тонконога. Среди золотистого их разлива густо рассыпаны в ложбинках озерки цветов, туманятся кое-где, как бы покрытые инеем, сизые островки степного чая. Изредка виднеются над ковылями шарообразные кусты верблюжьего сена, кермека и молодого курая, которые осенью, отломившись от собственного корня, станут перекати-полем.
— Вы знаете, здесь даже зимой, если пригреет солнце, поют жаворонки, — сказала Светлана.
— И отары пасутся? — спросил Данько.
— И отары…
— Всю зиму?
— Всю зиму… если нет буранов.
Далеко, у самого края неба, паслись небольшим табунком ветвисторогие олени, зебры и антилопы, изредка маячили в направлении Сиваша столбы степных колодцев.
— Знаете, кто их роет? — опять обратилась к ребятам Светлана. — Есть такой дядька Оленчук Мефодий. Говорят, что он колдун, потому что видит сквозь землю все подземные озера, пруды и реки… Их тут много течет под степью… Но барыня не может их видеть, ей это «не дано», а Мефодий видит, потому что он чародей, поэтому барыня нанимает его копать в степи колодцы…
Так они шли, разговаривая, изредка останавливаясь, чтобы осмотреть в траве гнездо стрепета или сорвать какой-нибудь особенно красивый цветок, и снова шли дальше, свободно вдыхая аромат весны, настоенный на теплых душистых травах.
Потом они стояли перед древним степным маяком — каменной массивной бабой с острой монгольской прорезью глаз. После радостного бодрого юноши Геркулеса, который раздирал в саду пасть гидры и поил весь парк водой, эта, саженная, захлестанная ветрами баба-яга показалась ребятам зловещей, как приведение пустыни, как вещунья самих засух… Сложив на обвислом животе руки, она загадочно усмехалась степи вечной каменной усмешкой.
— Чего она расплылась до ушей? — обратился Данько к Валерику.
— Не знаю… И никто не знает.
— А что у нее в руках?
— Одни говорят, что светильник, другие — что книга…
— А по-моему, это больше на камень похоже…
— Какая противная, — сказала Светлана. — А барыня их стягивает со всей степи и ставит, как жандармов, в ряд под своими окнами.
И, взявшись за руки, они снова нырнули в шелка навстречу морю, ясному, чудесному.
А впереди до самого края неба разлеглась бестравная бурая земля, ровная, в пятнах солончаков, сухая до звона. Вскоре, словно сквозь мигание расплавленного стекла, далеко-далеко на горизонте выросло несколько голых, рыжих, словно покинутых людьми, халуп. Понизу, обтекая их, быстро двигалось могучее марево, и странным казалось, что оно до сих пор еще не размыло эти глиняные приземистые мазанки, похожие на татарские сакли.
— То уже табор Солончаковый, — остановилась Светлана. — А дальше там где-то будет Строгановка на Сивашах. Там живут те крестьяне, что воду крадут… У них воды мало, так они ее крадут ночью из господских колодцев… Недавно объездчики пригнали двоих… Руки за спиной скручены, лица в крови…
Чабанствует Данько в степи.
Уже привыкли к нему верблюды, которых сам он запрягает в арбу, не гоняются за ним вожаки отары — высокомерные козлы со звоночками на шеях, полюбили Данько даже строгие приотарные собаки — белые лохматые овчарки украинской породы, для разведения которой Фальцфейны держат целый собачий завод.
Вначале было много хлопот у юного арбача с верблюдами! Сколько идешь, всё ревут и ревут, задрав головы к небу. А как лягут посреди дороги, так — хоть плачь — никаким способом их не сгонишь, пока сами не поднимутся. Кроме того, у них была плохая привычка сворачивать в любой двор как домой. В первую же пятницу, когда Данько поехал в экономию за продуктами, завернули его канальи верблюды под самые окна Софьи! Остановились и давай реветь, будто с них шкуры живьем сдирают! Хорошо, что во-время сбежались другие арбачи, оттащили поскорее экипаж Данько подальше от панских окон, не то не миновать бы ему расправы…
Атагас Мануйло терпеливо поучал хлопца, как приноровиться к верблюдам, как за ними ходить.
— Ты их не бей, Данило… Они хоть и верблюды, а шкура у них нежная, как у человека: видишь, от батога сразу трескается… А потом, — забыл я тебе сказать, — соли ты им даешь?
— Соли?
— А как же… Ему соль — как коню овес… Дома, в оренбургских степях, он на солончаках вырос, и без соли ему здесь не житье…
Метнулся Данько к арбе, принес торбу, насыпал каждому, наверное, по фунту:
— Ешьте, только не ревите!
Набрали верблюды полные рты соли, принялись разжевывать ее, как зерно, благодарно поглядывая на арбача.
— Странные создания: едят курай и молочай, а солью закусывают!
— Вот так угощай их каждый день… Чего-чего, а соли хватит: под боком, на Сивашах растет…