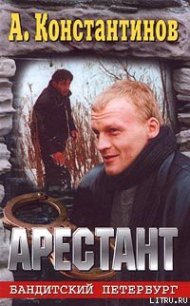Приключения женственности - Новикова Ольга Ильинична (читать книги онлайн бесплатно серию книг .txt) 📗
«Каких таких отношениях?» — удивленно спрашивала она мужа, не замечая своего кокетства.
Привычка трястись над единственным чадом за время метаний по врачам стала рефлексом, потребностью, доходя уже до всепоглощающей, болезненной страсти, которая требует все нового, свежего топлива, то есть оба родителя искали и находили оправдание своей неуемной заботе, и фантазия у них разыгрывалась незаурядная. Неуправляемый вирус доброты атрофирует волю им зараженного — нормальный с виду человек неминуемо и незаметно для себя (для близких тоже) превращается в инвалида, и вместо того, чтобы перебираться через естественные препятствия, которые ставит людская злоба, ревность, зависть (каждый побывал их строителем, кто нет, киньте в меня камень), и наращивать благодаря этому тренингу не стероидные, а крепкие, хорошо действующие мускулы, — человек робеет, отступает и скатывается на обочину, а ум услужливо подсовывает философию клошара, пораженческую, ведь победное место Диогена (в бочке, если кто не помнит) при повторе, тиражировании, как всякое искусство, становится лишь пародией.
Дуня бы тоже не устояла, испортилась — иммунитет к обычным болезням у нее восстановился, а откуда у доверчивой, домашней девочки-девушки возьмется иммунитет к неразумной родительской доброте…
Одумалась Клава, сказались-таки гены строгости, переданные Елизаветой Петровной, которая, живи она поближе, давно бы поставила на внучке клеймо «избалованная» (невыводимое, как лилия на плече Миледи; строгость — необходимый инструмент воспитания, но не делайте ее орудием единственным или самым важным: по этой искусственной канаве из воспитателя начнут выливаться мстительность, зависть, садизм, и сдерживать этот поток зла отнюдь не всякому захочется), если б оно не было уже использовано для младшей дочери. «Избаловал тебя Костя», — брезгливо-обиженно поджимала она губки и тогда, когда Клава первый раз летела в Лондон по подаренной мужем путевке (виза, самолет, гостиница, без навязанных попутчиков и экскурсий), и когда замечала у нее новые сережки с бриллиантиками (сэкономил профессор на зарубежных суточных, тогда и купил в ювелирном отделе супермаркета — то есть ничего эксклюзивного в них не было, кроме любви, которая и поблескивала теперь в ушах Клавы, и нельзя ее было конвертировать в страховку на гипотетический «черный день» — это-то Елизавета Петровна понимала), и когда осуждающе причитала «сами бы еще могли поносить», примеряя разношенные, но целые адидасовские кроссовки, новый свитер с фабричной дырочкой на груди («заштопаю, видно не будет, и носи сама» — «не надо мне, мамочка, по ошибке купила»), вышедшие из моды платья-майки-брюки, которые сама же просила не выбрасывать — «в саду все сгодится».
— Ну, отдохнешь, и за работу, то есть за ее поиски, — глухо, с пластмассовым, не хрустальным звуком чокаясь шампанским с Костей и Дуней, провозгласила Клава — в духе горьковского деда Каширина: не медаль, мол, на шее, иди-ка ты в люди. Красный университетский диплом дочери отмечали.
Почти всякая декларация обречена на фиаско, и Клавино намерение приговорить дочь к полной самостоятельности очень скоро зачахло, изжило себя: толчок, подсказанный только разумом, без участия сердца, потерял свою силу.
Сколько ни тыкалась Дуня, результат получался банальный, лень даже описывать: за копейки, то есть за рубли — места есть, но… работать нужно по-современному, много, а платят по-советски, мало, очень мало, на картошку не хватит. (Говорят, есть диеты, по которым от макарон-каш-картошки худеют, но у Дуни с Клавой, нет, у Клавы с Дуней, то есть по воле матери, дочь о весе заботилась добровольно-принудительно, из подражания, — не получалось, лучше все же общепринятые фрукты-овощи, по законам рыночной востребованности и благодаря базарной мафиозности дорогущие даже осенью, в разгар самого небывалого урожая.) Это если найдешь штатную работу, Дуня же пока перебивалась случайными гонорарами: писать начала на ставшие популярными экономические и юридические темы, сперва для научных журналов, потом ее материалы стали печататься и на серо-белых газетных полосах, и на цветных, гладко-блестящих журнальных. Хвалили, цитировали, особенно на халяву в Интернете и по телеку, воруя Дунины формулировки — горька судьба внештатно-заштатного автора, если кто еще не знает.
Первым задергался Костя. Плотно закрывал дверь своего кабинета, чтобы позвонить, прятал глаза, путался, отвечая на простой вопрос «куда едешь?», задаваемый не ради контроля, а для помощи — чтобы паспорт не забыл, если нужно в посольство за визой; дискету, если статью в журнал везет; галстук, если официальное что-нибудь; студенческую работу, если с дипломницей встречается (все это не раз уже забывал, никакого преувеличения). Неумеренная доза такой заботы постепенно лишает человека самостоятельности, отнимает у него свободу, а когда к ней подключается старость, то вместе они быстро превращают его в беспомощного чудака, почти карикатурного профессора. Но так происходит только когда хочешь — осознанно или не отдавая себе отчета, все одно — привязать к себе дорогого человека (дорогого из-за сильного чувства к нему или по меркантильным соображениям, любовника-любовницу, мужа-жену, сына-дочь или друга — приемы и результат сходны).
Не Клавин случай. Прежде всего потому, что первые годы она жила с мужем по вышученному в «Скучной истории» принципу «наша шапка». Все, даже его почти энциклопедические познания (Костин ум, как желудок, все время требовал информационной пищи, которая после ее потребления не отлагалась в кроссвордно-эрудитные складки, пригодные разве что для телеигры в «миллионера», а перерабатывалась в новые идеи, в научные теории) считала «нашими», пока его раздражение, растущее от ее вопросов (а память без тренировки перестает выдавать даже самые элементарные сведения, Клава могла забыть, когда родился Пушкин — зачем ей помнить, если у Кости наготове даты жизни всех сколь-ко-нибудь значительных мертвецов и годы рождения всех-всех интересных ему живых) и ее чувство стыда (приватизированные Костины знания создали ей репутацию, поддерживать которую было все труднее, пару раз она крепко лажанулась — грубоватое слово, но точнее нет, чтобы вырезать из памяти постыдный случай), объединившись, не вынуди-ли-таки ее самое искать и запоминать информацию.
Но бороться с самим собой за самостоятельность любимой, только что выздоровевшей дочери!.. Не Костин случай. Договаривался с приятелями, коллегами, шапочных знакомых теребил, чтобы посылать послушную Дуню на собеседования. В одной иностранной фирме она проработала весь испытательный срок, три месяца, ни одного прокола не допустила, но под надуманным, несправедливым предлогом в штат ее не взяли. Потом, позже, когда множество подобных случаев выстроилось в систему, пресса заклеймила халявную практику эксплуатации новичков, завезенную европейцами, чтобы не платить аборигенам нормальное жалованье — и юридически не подкопаешься!
Все охали-ахали, сочувствовали — «такая девочка, умная, образованная, талантливая, надо же!» — но ни разу даже не промелькнуло реального совета, когда советчик берет на себя хоть какую-то ответственность за результат (фирма та возникла по рекомендации Макара, он, правда, хмыкнул потом — довольно или виновато, разве по нему поймешь! — а возмущалась Варя, темпераментно осуждала, как южанка какая-нибудь).
— Ты обратную связь не умеешь устанавливать! — набросилась Клава на мужа, когда дочь закрылась в своей комнате, чтобы расшифровать интервью, которое она взяла перед рок-концертом у молодежного, и своего тоже, кумира, добилась разговора с не жалующим прессу певцом-композитором, и не по заказу от газеты, а для своего удовольствия. Пристроит ли еще потом в печать?
Костя не огрызнулся, не запетушился, как делал чаще всего, рефлекторно отстаивая мужскую амбицию, из-за чего справедливость упреков почти не доходила до его сознания, отскакивала, как мяч, слишком сильно и неметко брошенный в сторону корзины. Если он что-то и воспринимал, то только когда против его воли память, цепко реагирующая на мысль, удерживала в своем горбу суть спора, и в спокойном состоянии — например, шагая в одиночестве по арбатским, сретенским, замоскворецким переулкам (бесцельная прогулка по Москве помогала наткнуться не только на архитектурную красоту, в сфере идей тоже кое-что открывалось), — он начинал анализировать засевшую информацию, и его честный научный ум не мог отвергнуть здравые, хоть и горькие мысли.