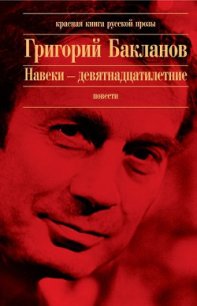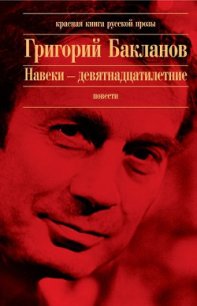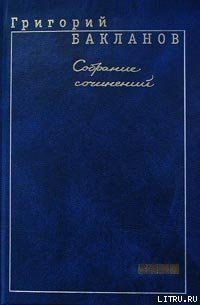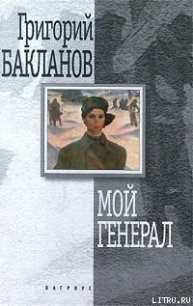Навеки — девятнадцатилетние - Бакланов Григорий Яковлевич (книга регистрации txt) 📗
Он и ста метров не отбежал, когда одна за другой полосонули автоматные очереди. Машина стояла, Обухов на подножке её держал перед собой автомат, Кытин с наставленным автоматом в руках пятился от машины, боком, боком, подвигался к кустам, как будто что-то обходя. Третьяков уже бежал к ним, выхватывая пистолет на бегу, слышал, как Обухов, сам бледный, палец держа на спуске, кричит чужим голосом:
— Хенде хох!
И поторапливает издали стволом автомата:
— Шнель, шнель!
Увидел, что лейтенант бежит к ним, крикнул радостно:
— Мы на них чуть колесом не наехали!.. Лежат… Чуть не подавили всех!
Из кустов подымались головы немцев, нерешительно тянули руки над собой. Набежав, махая на них пистолетом, Третьяков отогнал немцев на поле, Обухов, Кытин и вылезший с карабином шофёр, сам перетрусивший не меньше немцев, нацеленными дулами сопровождали их. Прибежали разведчики от другой машины, рыскали по кустам. Ещё откуда-то бежал народ.
— Где их взяли?
— Гляди, гляди! У-у, зверюга! У-у, глядит как!..
— Тут и лежали?
— Колесом чуть не наехали.
— Тут вот в кустах?
— А я слышу — стрельба…
Четырнадцать боящихся расправы немцев стояли на поле, жались в кучу, по лицам пытались понять, что их ждёт, испуганно опускали глаза под взглядами. Все лица, стирая на них человеческое выражение, комкал страх. Озирались. Затаённо вслушивались в недалёкую стрельбу. На нескольких белели бинты.
Ещё двоих поднял в кустах Чабаров и гнал пинками, бегом. С поднятым в руке автоматом бежал за ними, успевая пинать с обеих ног. Бойцы — кто с хохотом, кто зло посверкивая глазами — ждали. Немцы беспокойно пожимались. Добежав, двое ткнулись в толпу, толпа дрогнула. И сейчас же офицер, стоявший ближе других к Третьякову, улыбкой выпрашивая позволение, опустил единственную поднятую вверх руку — другая, толсто обмотанная бинтами, на перевязи висела перед ним, — суетливо доставал что-то из полевой сумки, достал, протягивал издали Третьякову, лопоча по-своему. С лица его, как умытого, падали мутные капли. Немец держал в руках целлулоидный круг и артиллерийскую координатную мерку, не такие, как у нас, непохожие, совал их, поощряя взглядом, кивал, кивал. Третьяков инстинктивно отстранялся. И неожиданно для самого себя громко сказал немцам:
— Нихт шисен! — И жестами показывал, что их не расстреляют, — Арбайтен! Нах Сибирь!
Пленные зашептались, засквозили на лицах бледные улыбки. Недалеко разорвался прилетевший из-за гребня немецкий снаряд, и чей-то потаённый злорадный взгляд из толпы поймал на себе Третьяков.
Расталкивая пленных, Чабаров отбирал у них оружие, в общую кучу кидал на землю полевые сумки, ранцы.
— Чего с ними делать со всеми? — спросил он.
— Что делать? — И, разозлясь на себя за внезапную жалость, Третьяков крикнул, чтоб все слышали: — Сколько в них будет во всех лошадиных сил? А ну, гони, пускай «форд» вытолкнут.
Под хохот бойцов Обухов погнал пленных к застрявшей в пахоте машине:
— Арбайтен! Арбайтен!
Не сразу поняв, что от них требуют, немцы облепляют машину, не столько выталкивают, как жмутся к ней.
Бойцы кричат:
— А ну, рраз-два! Рраз-два!
— Раскачивай! Раскачивай!
Просвистело над головами, несколько разрывов взлетает недалеко. В кузове — снаряды. Если в них попадёт и они рванут, от немцев, облепивших машину, от бойцов, помогающих криками, останется одна общая воронка. Немцы налегают осмысленно, кто-то свой командует им, и грузовик, завывая мотором, дрожа от усилий, несколько раз почти выезжает наверх и опять скатывается в яму, вырытую колёсами. Налегают снова, открыв дверцу, шофёр что-то кричит, опять машина, вся сотрясаясь, ползёт наверх. В последний момент, не выдержав, набегают бойцы, вместе толкают плечами, руками, сапоги упираются в отъезжающую из-под ног землю. Задрожав в последнем усилии, грузовик выкатывается, отрывается, и все вместе по инерции бегут за ним несколько шагов и останавливаются. Общие от общей работы улыбки сходят с лиц.
— А ну, давай их… Кытин, Обухов! — хмурясь, оттого что слышит летящий снаряд, приказывает Третьяков. — В тыл их… Давайте… Быстро! — продолжает говорить он и слышит, что снаряд летит сюда, и немцы тоже слышат это и все слышат.
Кузов фузовика, тяжело переваливаясь, удаляется, будто оседает в кустах. Два взрыва один за другим встают на поле, заслонив его. «Мимо!» — успел подумать Третьяков. И тут сильным ударом, так, что он еле устоял на ногах, швырнуло в сторону левую его руку. Закричали пленные, расступились. На земле корчился немец. Третьяков попробовал поднять руку, она странно переламывалась, свисала в рассечённом рукаве. И вот когда началась боль, замутило до дурноты. Зажмуриваясь, как от горячего, стиснул зубы, пытаясь болью задавить боль. Увидел мгновенно, как в занесённой руке Чабарова блеснул приклад автомата, высокий немец шатнулся от него, пальцами закрыл разбитое лицо.
— Не бей! — крикнул Третьяков и не осилил себя, застонал.
Часа через полтора врач полка, совместив перебитые кости, прибинтовал ему шину к руке.
— Выше подтяни ему, — говорил он сестре, которая вешала руку на косынке. — Ещё вот так. И полюбовался на свою работу.
— Отрежут мне руку? — спросил Третьяков, не сумев скрыть испуга.
Врач улыбнулся, привычно бодрым тоном сказал:
— Вы ещё этой рукой повоюете. Ещё будете немцев бить этой рукой. Если, конечно, война не кончится раньше.
— Спасибо, доктор! — поблагодарил Третьяков. — Третий раз и все в эту руку.
— Третий — значит, последний. В жизни все до трех раз.
Раненых было не много, все они, кто мог ходить и ползать, сползлись на солнечную сторону дома, ждали отправки, и врач тоже вышел на улицу постоять.
— А что, много там немцев? — спросил он, прислушиваясь к недалёкому погромыхиванию орудий. — Большими силами прорываются?
Теперь Третьяков уловил в его голосе некоторую тревогу.
— Да нет, непохоже. Но вы на ночь все же выставляйте посты.
— Из кого?
— Да хоть из легкораненых, которые при санчасти.
— Раненые должны выздоравливать, — сказал врач, и на лице его с поднятыми бровями появилось философское выражение.
— Захотят жить, постоят.
Третьяков неловко пошевелил плечом, боль прожгла насквозь. Хмурясь, он наблюдал за сержантом, усатым, здоровым, крепким, который, с веником выйдя из дома, подметал у крыльца, согнувшись, старательно пылил.
— Лодырей своих не жалейте, — сказал он врачу. — Тут немцы бродят, учтите. Днём остерегаются, мы чуть колесом их не подавили, спасались в кустах, а ночью… Оружие ведь валяется везде.
Подошла санитарная повозка, начали грузить раненых. Решив для себя, что ехать ему во вторую очередь, потому что есть тут раненые похуже, Третьяков в шинели внапашку сидел на ступеньках крыльца, смотрел, как распоряжается у повозки санинструктор, молодая, властная, резкая; ездовой только вздрагивал от её голоса, опрометью кидался исполнять, и все — не в ту сторону.
Погрузили тяжелораненого. Его положили в солому на дно повозки, он слабо постанывал. Кто мог, ковылял сам, стараясь казаться жальче, чем есть. Достав зажигалку из кармана, Третьяков закурил, глубоко и сладко вдохнул дым, рассматривал полу своей шинели, вкось забрызганную его кровью, уже присохшей, ржавой. Он попробовал оттирать её, сминая сукно в пальцах. Боль, приглушённая новокаином, сейчас не слишком тревожила его, такую боль терпеть можно. Не раз ещё будут с кровью отрывать бинт от живой раны, пока она не загноится и повязка сама начнёт отставать. Мысленно он уже видел весь путь, который ожидает его. В этот раз, наверное, загипсуют руку. Вспомнился парень в санлетучке, как он щепочкой вынимал червей из раны. Вот что, наверное, терпеть трудно, когда чешется под гипсом…
— Лейтенант! Иди!
От повозки врач звал его и махал рукой. Решив с самого начала, что места ему не будет, и настроившись так, Третьяков обрадовался. Подошёл.
— Садись, — говорил врач. — Езжай. И в путь, осторожно похлопал по спине. Теперь, когда его отправляли в тыл, он почувствовал смутную вину перед теми, кто оставался. И тут заметил пожилого бойца у стены хаты. Он сидел на земле, вытянув ногу в свежих бинтах, усмехнулся нехорошо и сразу опустил глаза. Третьяков помедлил.