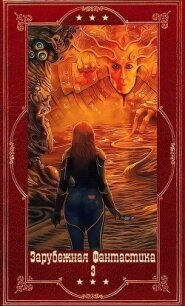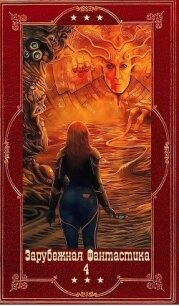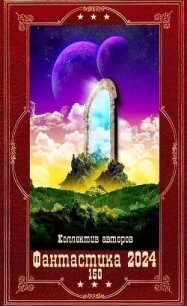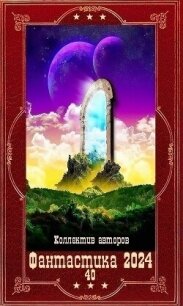Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги бесплатно без .TXT, .FB2) 📗
Больше часа он сидел на земле, сооружая для Олли игрушечную молотилку из катушки, драночных гвоздей и коробки из‑под сыра. Потом они вместе перемолотили четыре или пять столовых ложек семян сорной травы. Пока ужинали, в открытую настежь дверь светило солнце, а чуть позже, когда сидели на одеялах у теплой западной стены и смотрели, как солнце садится в толстое облако с пламенеющими краями, пришел Фрэнк с мандолиной. Сказал, что купил ее в городе за три доллара у шахтера, оставшегося на мели. Пришло время, сказал он, чтобы защебетали птички, и, как только он разомнет пальцы и освоится с инструментом, на котором когда‑то играл, земля огласится черепашьим пением.
– Черепахи не поют, – сказал Олли.
Разомлев после дня на солнце, он обмяк меж отцовских колен и теребил широкое золотое обручальное кольцо на руке, которая его придерживала. За несколько часов его личико порозовело от солнца.
– Кусающиеся еще как поют, – сказал Фрэнк. – Погоди, услышишь.
Склоняя темноволосую голову над мандолиной, которую настраивал, он казался Сюзан не бравым помощником горного инженера, отразившим с помощью винчестера атаку захватчиков, а дорогим другом, младшим братом, красивым и беззаботным юношей. То, как он улыбался, как прикасался к ней взглядом, размягчало ее. За один день все стало спокойней, ласковей, выносимей. Оливер, сидевший у бревенчатой стены с Олли между колен, выглядел совсем домашним – хоть рисуй для “Очага и дома”. Рядом с ним, обхватив свои колени, сидел Прайси. У него была привычка придвигаться как можно ближе, а потом делаться тихим и невидимым. Даже крыши Ледвилла, даже разодранные холмы и уродливые надшахтные постройки выглядели при таком освещении живописно, и вечерний шум, доносившийся с улиц внизу, был всего лишь легким подрагиванием воздуха. В треньканье струн под пальцами Фрэнка уже слышалась зачаточная музыка, лишенная мелодии и неутихающая, как пиликанье сверчка.
Настроив мандолину, Фрэнк заиграл что‑то негритянское. Звучало вполне сносно; Сюзан радостно заявила, что он настоящий музыкант.
– Для черепашьего пения, может, и сойдет, – сказал Фрэнк. – Ну что, споем? Какую песенку, Олли?
Но Олли, прислонившийся к отцу, сосал большой палец и ничего не предложил.
– Ну что же ты, Олли, – сказала Сюзан. – Вынь изо рта палец, будь хорошим мальчиком. Что хочешь спеть? Что тебе нравится?
У него по‑прежнему не было предложений. Палец, который отец вытащил у него изо рта, снова нашел туда дорогу.
– Он устал, – сказал Оливер. – Пойдешь в гамак, дружище?
Ответ был односложный, капризный, заглушенный пальцем, отрицательный.
– Наверно, перегрелся на солнце, – сказала Сюзан. – Ему лучше бы поскорее лечь. Но сначала пусть послушает, как поет черепаха. Начните что‑нибудь, Фрэнк.
Фрэнк начал “Реку Севани”. После нескольких пробных тактов обрел уверенность и запел как следует. У него был звучный баритон; трепещущая мандолина на фоне его голоса казалась хрупкой девушкой в белом, стоящей спиной к темному стволу дерева. Сюзан повела альтовую партию, Оливер подтягивал рокочущим басом. На слух Сюзан, выходило очень даже неплохо. А потом прибавился еще один голос – высокий и сладкий, как рулады квакши, тенор Прайси. Полный ансамбль! Довольные, они переглядывались, округлив глаза; сели теснее, придав округлость и голосам тоже. Прожив два тоскливых месяца, они пели, как поют пересмешники в майское воскресенье, и любили каждый звук, каждую ноту. После концовки, которую тянули долго, дружно расхохотались, хлопая в ладоши, хваля друг друга.
– Ну какие же мы молодцы! – воскликнула Сюзан. – Просто настоящие профессионалы! Хоть в ресторан наниматься, хоть концерты давать в отеле “Грейт вестерн”. Прайси, вы пели чудесно! Я и не знала, что вы такой голосистый. И вы, Фрэнк. У вас очень приятный тембр. И вы так верны в пении!
Полные дружбы и смеха, их глаза встретились. Она увидела, что ему хочется истолковать ее последнюю фразу расширенно. И почему нет? Он и правда верен. Ни она, ни Оливер не могли бы без него обойтись. Но в его мимолетном смеющемся взгляде было даже больше, и она приняла это тоже. Его восхищение взволновало ее, настроило на кокетливый лад – на нее часто так действовала приятная, нарядная компания. Она чувствовала, как разгораются щеки.
– Еще, еще! – воскликнула она. – Какие песни вы знаете, Прайси? Гимны? “Abide with Me”? “Ein Feste Burg”? “Turn Ye to Me”? “Drink to Me Only with Thine Eyes” [107]? Давайте всё споем, давайте петь всю ночь!
Они наполняли двор сладкозвучием – а тем временем солнце садилось, запад мерк, летучие мыши начинали простегивать темнеющий воздух. Пришел, как видно, час благодарности за избавление от того, что на них легло. И рядом сидел Прайси, сидел и пел вовсю без малейшего заикания, знал слова всех песен, даже тех, которые она считала чисто американскими. За один день он расцвел. Да, никаких сомнений, плохое время позади. Над вершинами гор ровным светом сияла большая белая Венера.
– Олли, и ты спой, – сказала она. – Ты ведь что‑то из этих песен знаешь. Спой, не бойся. Ты что, все еще палец изо рта не вынул?
– По-моему, он малость озяб, – сказал Оливер. – Его дрожь пробирает.
– Что же ты ему одеяло не вынес?
– Разве я мог прервать песню? – Он засмеялся и перегнулся через макушку Олли, чтобы заглянуть ему в лицо. – Холодно, малыш? Хочешь одеяло или уже спать? – Олли не отвечал. – Ого, – сказал его отец. – Да ты прямо трясешься. Не настолько тут холодно.
Сюзан, напрягшись, заподозрив недоброе, приподнялась и встала на колени.
– Может быть, на солнце перегрелся, он был весь розовый.
– Мне кажется, он шутки с нами шутит. Эй, старина, ладно тебе дрожать, как в тридцать градусов мороза.
Он поставил мальчика на ноги, повернул к себе и вгляделся в него в полутьме. Олли содрогнулся в отцовских руках, зубы клацнули. Еще до того, как Сюзан добралась до него и потрогала его холодное лицо, до того, как привела его в дом, зажгла лампу и увидела белые-белые пальцы и синие ногти, она все поняла. Приступ озноба, возврат старого милтонского проклятия. Несколько часов – и он будет пылать в жару, еще несколько часов – и будет весь мокрый от пота. И так неделями: озноб – жар – потливость, несколько обманчивых дней хорошего самочувствия, и снова озноб, и снова весь цикл, и с каждым циклом либо болезнь, либо больной делается слабей, пока она или он не истощится. И некому в Ледвилле его показать, кроме пьяницы врача, от которого она избавила Прайси.
Помню по моему детству, какой тяжелой нервозностью бабушка могла окружить болеющего. “Оставь ребенка в покое, – рычал на нее дедушка. – Дай ему отоспаться”. Это был его способ: лечь лицом к стенке и прикрутить свой обмен веществ, пока что‑то внутри не подскажет, что дело идет на лад и можно встать. Но бабушка реагировала на болезнь так же, как на свою бессонницу. Она никак не могла просто лечь и тихо лежать, пока не уснет. Всегда надо было что‑то еще поправить, что‑то последнее сделать для расслабления: стакан воды, немножко соды для желудка, сменить наволочку, убрать щелку в жалюзи, проверить печку и входную дверь. Пока она готовилась ко сну, уже приходило время вставать.
То же самое с болезнью. Ее прохладная рука день и ночь ложилась на горячий лоб страдания. Она будила тебя, чтобы посмотреть, не нужно ли тебе еще что‑нибудь для полного удобства. Она слушала твое дыхание, вглядывалась в твои затуманенные глаза и обложенный язык, вздыхала, прищелкивала языком, шептала что‑то, неохотно оставляла тебя одного и возвращалась раньше, чем ты успевал сомкнуть глаза. Китайский крестьянин, который выдергивал свой рис из земли, чтобы посмотреть, как он растет, был по сравнению с бабушкой расслабленным лентяем. Не понимаю, как мой папа остался жив после кори и ветрянки, не говоря уже о малярии. Не понимаю, как она осталась жива. За кризисную неделю она превращалась в проволочную скульптуру, чьи глаза она сама, с отвращением смотрясь в зеркало, уподобляла двум прожженным дыркам в одеяле.