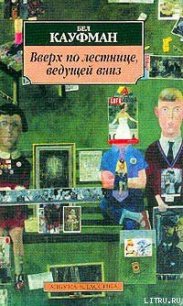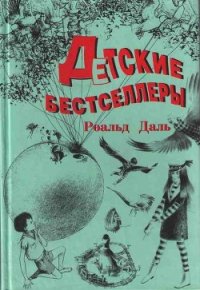Муравечество - Кауфман Чарли (читаем книги бесплатно txt) 📗
— Ужасно выглядишь, — сказал он.
— Да уж. Остался без работы. Остался без квартиры. Сплю в кресле. Работаю над невозможным проектом.
— Спальное кресло?
— Именно.
— Знакомо. А что за проект?
Я немного рассказал об утраченном фильме, потом упомянул Мадда и Моллоя.
— А я их помню, — сказал Пухлик.
— Погоди. Что?
— Мадд и Моллой. А то. Очень странный дуэт. Два Эбботта, да? Так их прозвал Уинчелл[108] после несчастного случая?
Я потерял дар речи.
— Ага. Они самые, — выдавил я.
— Впрочем, никогда их не видел. Просто время от времени доходили слухи. Они вечно гастролировали по захолустью. Прозябали. По-моему, в какой-то момент просто исчезли, — сказал Пухлик.
— Ты никогда не слышал, что на их жизнь покушались Эбботт и Костелло?
Пухлик рассмеялся.
— Впервые слышу. Само по себе как комедия.
Я спросил, не поищет ли он упоминания о них в книгах. Он кивнул и ушел, вернулся где-то спустя час.
— Пока что немного. Нашел вот что.
Протянул мне рецензию на представление «Жесткая посадочка» из арканзасской газеты 1950 года.
Потом добавил:
— И, конечно, снимались в том фильме.
— «Идут два славных малых»? Но ведь они так и не досняли…
— Нет. Киношка с Мэндрю Мэнвиллом.
— Великан Мэндрю Мэнвилл существует?
— Эм-м. Нет. Чего? Существует звезда комедийного амплуа Мэндрю Мэнвилл. Существовал. Что значит — «великан»?
— Господи.
— Что?
— Слушай, у вас есть свободный компьютер?
Я сел в кабинку и изучил страницу Мэндрю Мэнвилла на IMDB. Пятьдесят три фильма. Некоторые упоминались в кино Инго, но в реальном мире я не слышал ни одного названия. Мэнвилл был женат на Бетти Пейдж. Черт возьми. Я же знаю все о Бетти Пейдж, писал монографию о фотографе Ирвинге Клоу под названием «От Клоу до Ричардсона: белые комнаты и ужас сексуального подчинения в фотографии». Так что знаю о Пейдж все, что только можно знать, и уж точно — ее трех мужей. Джо Ди Маджо. Артур Миллер[109]. Ричард Бертон[110]. Мэндрю Мэнвилла среди них никогда не было.
Я ухожу и скоро оказываюсь в пьяном споре с Тони Скоттом в «Первоцвете» — любимой забегаловке критиков на Западной 19-й.
— «Навреди (плохим режиссерам)» — вот мой девиз.
— Но… — говорит Скотт.
— Никаких «но», Тони. Плохие фильмы — это не мелкая неприятность. Они заражают человеческую психику, извращают мысль, обесценивают человечность от и до. Как споры-мозгоеды из будущего!
— Но, слушай… — говорит Скотт.
— Нужно вести непрерывную войну против подобного культурного злодеяния.
— Я не… — говорит Скотт.
— Бам! — говорю я и колочу по столу. — Шах и мат, Скотт! Я помчал.
Плетусь к двери. Меня ожесточило знание, что, похоже, выдуманный мир Инго просачивается в мой собственный. Теперь каждый за себя.
По дороге на север к Барассини я вышагиваю, чуть ли не как молодой Джон Траволта, так переполняет энергия после разгрома Э. О. Скотта[111]. Кончена его карьера. В этом я уверен.
Глава 46
— Рассказывай.
Я смотрю, как Моллой пишет «Жесткую посадочку» (которая в конце концов закроется посреди гастролей в Филадельфии). Он печатает за столом часами, ни разу даже не улыбнувшись. Инго снова применяет цейтрафер. Смены дня/ночи я считаю по подвальному окошку на уровне улицы. Триста семь раз: около десяти месяцев. Приходит и уходит Мадд, приносит еду, забирает тарелки. На этой скорости стрекот пишущей машинки сливается в единый продолжительный и ужасающий щелк-к-к-к-к-к-к, который регулярно, но ненадолго заглушается, когда Моллой исчезает из комнаты. Спит? Ходит в уборную? Однажды он возвращается в окровавленной одежде; снимает и сжигает ее в камине. Объяснения не предлагается.
Единственным сохранившимся упоминанием «Жесткой посадочки» оказывается следующая рецензия о постановке в «Кинг-Опера-Хаусе» в Ван-Бурене, Арканзас.
Рецензия Эдны Чалмерс, театрального критика, «Ван Бурен Пресс Аргус»:
«Жесткая посадочка» — музыкальное ревю, что ставится в «Кинг-Опера-Хаусе», — это диковинка, какую мистеру Роберту Рипли захотелось бы включить в свою следующую радиопередачу «Хотите — верьте, хотите — нет». Впрочем, ему бы лучше поторопиться, поскольку вечер, когда приходила я, аншлагом не назвать. Внешне выполненный по примеру постановок г-д Олсена и Джонсона, на этом вечере комедии и песни трудно опознать то или другое. Предпосылка, если ее можно так назвать, судя по всему, в том, что Бад Мадд и Чик Моллой — два сердитых и немногословных следователя Комитета гражданской авиации, ведущих дело о крушении рейса 605 «Восточных авиалиний» 1947 года. Если вы с ходу не видите комедийного потенциала в сюжете об исторической катастрофе, в которой потеряли жизни 53 человека, то вы сойдетесь во мнении с рецензентом. Сумасбродная история повествует о двух следователях с одинаковым характером и гардеробом, пока они соглашаются друг с другом о причине несчастного случая. В наличии также призраки погибших, семьи жертв и местные очевидцы. У всех тот же характер, что и у Мадда и Моллоя. Даже у девушек на подтанцовке есть усы.
Мадд и Моллой сидят в гримерке за сценой «Кинг-Опера-Хауса».
— Ты не понимаешь, — говорит Моллой. — В этом шоу есть всё.
— Оно не приносит удовольствия, Чик, — говорит Мадд. — По-моему, когда люди выходят в город вечером после тяжелой рабочей недели, им хочется развлечься.
— «Прислушайся к крику роженицы в час родов, взгляни на муки умирающего в его последний час, — а потом скажи, предназначено ли для развлечения то, что так начинается и кончается». Знаешь, кто это сказал, Бад?
— Нет.
— Сёрен Кьеркегор.
— Я не знаю, кто это, Чик.
— Величайший философ всех времен.
— Ладно, — говорит Мадд. — И все же это выходной, так что…
Я и сам кьеркегорец в том смысле, что мое положение на спектре Гегель/Шлегель — ровно посередине, в синтезе двух противоборствующих лагерей. Меня одновременно злит и печалит, что Фред Раш издал книгу «Ирония и идеализм: перечитывая Шлегеля, Гегеля и Кьеркегора» об этом самом синтезе раньше, чем я смог подготовить материал, написать, а потом найти издателя для собственной «Разве не романтично? Идеализм и ирония: возвращаясь к Гегелю, Шлегелю и Кьеркегору». Предполагаю, в мозг Рашу передалась какая-то информация из моего. Не могу разобрать механику процесса, но другого объяснения быть не может. Я заметил, что он получил докторскую корочку в Колумбийском университете, где я часто бываю в кампусе — носить матрас солидарности[112]. Передача мыслей могла произойти в любой из тех моментов.
Аббита С. X. Четырнадцать Тысяч Пять возвращается, в этот раз в чем-то еще воздушном. Она так прекрасна. Она действительно существует или я ее придумал? Я не могу узнать. Но в любом случае люблю ее, и если я ее придумал, то это в каком-то смысле самовлюбленность. Полагаю, тогда это можно назвать и неким нарциссизмом, но будь это нарциссизм, разве Аббита не выглядела бы в точности как я, только в воздушном платье? Нет, она моя противоположность: женщина, красивая, гениальная, из будущего. Все эти четыре пункта — не обо мне. Может, я гениален.
— Ты согласен? — говорит она.
— О чем это?
— Историческое произведение.
— О каком периоде?
— Твоем, — отвечает она.
— Значит, не историческое.
— Для меня — историческое. Но я много изучала твое время. Например, знаю, что у «Кит-Ката» разные странные вкусы.
— Только в Японии.
Аббита записывает это в блокнот.
— О чем твое брейнио? — спрашиваю я.
— Убийство президента Дональда Транка.
— Трампа.
— Прошу прощения?
— Он Трамп.
— Вряд ли. Я много изучала. В будущем все думают, что он Транк. Никто не думает, что Трамп. Я проверяла. Мы знаем, как для него было важно его имя.