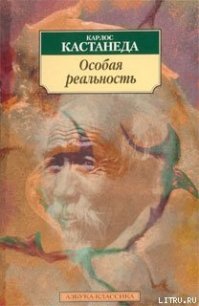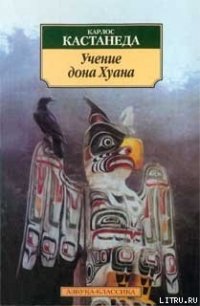Путешествие в Икстлан - Кастанеда Карлос Сезар Арана (книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Я спросил, не нарушает ли мое появление его привычного распорядка. Он взглянул на меня, слегка нахмурившись, и ответил, что у него нет никаких распорядков и что, если мне хочется, я могу провести у него хоть целый день.
Я заранее заготовил несколько опросных генеалогических карт, которые собирался заполнить со слов дона Хуана. Кроме того, порывшись в литературе по этнографии, я составил общий перечень особенностей культуры местных индейцев. Я собирался просмотреть его с доном Хуаном и отметить то, что покажется ему знакомым.
Начал я с генеалогии.
– Как звали твоего отца? – спросил я.
– Я звал его «папа», – ответил дон Хуан совершенно серьезно.
С некоторым раздражением я подумал, что он не понял и надо ему втолковать. Показав опросную карту, я разъяснил, что одна пустая графа там оставлена для имени и фамилии отца, другая – для имени и фамилии матери. Потом я решил, что, наверное, следовало начать с матери, и спросил:
– Как звали твою мать?
– Я звал ее «мама», – ответил он с обескураживающей наивностью.
Сдерживаясь и стараясь быть вежливым, я сформулировал вопрос иначе:
– А как ее звали другие? Как вообще к ней обращались?
С глуповатой улыбкой старик взглянул на меня и почесал за ухом:
– Ага… Вот тут ты меня поймал. Надо подумать…
После минутного замешательства он, казалось, что-то вспомнил.
Я приготовился записывать. С глубокомысленным видом дон Хуан произнес:
– Другие? Другие обращались к ней так: «Эй, послушай-ка!»
Я невольно рассмеялся. Все это выглядело действительно комично, и я не мог понять, то ли передо мной хитрый старый индеец, который намеренно морочит мне голову, то ли и вправду простодушный дурачок.
Набравшись терпения, я постарался разъяснить ему, что этот вопрос – весьма серьезный и что заполнение опросных карт является очень важным моментом в моей работе. Я приложил максимум стараний к тому, чтобы он понял идею генеалогии и личной истории. Закончив, я спросил:
– Так можешь ты назвать мне имена своих родителей?
Он взглянул на меня. Взгляд его был ясным и добрым.
– Ты зря тратишь время. Давай не будем заниматься ерундой.
Я не нашелся что сказать. Только что я разговаривал с растерявшимся глуповатым индейцем, который озадаченно чесал в затылке, и вот, спустя какое-то мгновение, роли переменились: теперь уже я сам чувствовал себя дураком, а он смотрел на меня совершенно неописуемым взглядом. В его взгляде не было ни раздражения, ни презрения, ни торжества или самодовольства, а лишь ясность, проникновенность и доброта.
– У меня нет личной истории, – сказал дон Хуан после продолжительной паузы. – В один прекрасный день я обнаружил, что в ней нет никакой нужды, и разом избавился от нее. Так же, как от привычки выпивать.
Я ничего не понял. У меня возникло ощущение смутной тревоги. Я напомнил ему, что он сам разрешил мне задавать вопросы. Он опять сказал, что против вопросов не возражает.
– Но личной истории у меня больше нет, – сказал он и испытующе взглянул на меня. – Когда она стала лишней, я от нее избавился.
Я уставился на него, пытаясь вникнуть в скрытый смысл его слов.
– Но как можно избавиться от личной истории?
– Сначала нужно этого захотеть, а потом, действуя последовательно и гармонично, в конце концов просто отсечь ее.
– Но зачем?! – воскликнул я.
Моя личная история была мне ужасно дорога. Я совершенно искренне чувствовал, что без глубоких семейных корней в моей жизни не было бы ни преемственности, ни цели.
– Нельзя ли уточнить, что имеется в виду, когда ты говоришь «избавиться от личной истории»? – спросил я.
– Уничтожить ее. Стереть – вот что, – жестко ответил дон Хуан.
– Ну ладно. Возьмем, например, тебя. Ты – яки. Как можно это стереть? Ведь ты не можешь этого изменить.
– Я – яки? – с улыбкой спросил он. – С чего ты взял?
– Верно! – сказал я. – Я не могу этого знать наверняка, но сам-то ты знаешь, и это единственное, что имеет значение и что делает этот факт личной историей.
Я почувствовал, что попал в точку. Но он ответил:
– То, что мне известно, яки я или нет, еще не является личной историей. Личной историей становится лишь то, что знаю не только я, но и кто-нибудь другой. Что же касается моего происхождения, то уверяю тебя: никто не может сказать с уверенностью, что ему что-нибудь об этом известно.
Я торопливо записывал за ним все, что он говорил. Затем, прекратив писать, взглянул на него. Я никак не мог понять, с кем имею дело. В уме промелькнул весь набор впечатлений, которые он на меня производил: таинственный жуткий взгляд, с которого началось наше знакомство, обаяние его утверждений о том, что всё в мире соглашается с ним, его остроумие, собранность и динамичность, и тут же – выражение полнейшей тупости на лице, когда я спросил о родителях, а сразу после этого – совершенно неожиданная сила его ответов, которыми он поставил меня на место.
– Ты недоумеваешь, кто же я такой? – спросил он, словно читая мои мысли. – Тебе никогда не узнать, кто я и что из себя представляю. Потому что у меня нет личной истории.
Он спросил, есть ли у меня отец. Я ответил, что есть. Дон Хуан сказал, что мой отец – пример того, о чем идет речь. Он велел вспомнить, что думает обо мне отец, а потом сказал:
– Отец знает о тебе все. Поэтому ты для него – как раскрытая книга. Он знает, кто ты такой, что из себя представляешь и чего стоишь. И нет на земле силы, которая могла бы заставить его изменить свое отношение к тебе.
Дон Хуан сказал, что у каждого, кто меня знает, сформировался определенный образ моей личности. И любым своим действием я как бы подпитываю и еще больше фиксирую этот образ.
– Неужели тебе не ясно? – драматически сказал он. – Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы ее сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не было личной истории, надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассердить или разочаровать, а самое главное – ты не был бы связан ничьими мыслями.
Неожиданно до меня дошло, что он имеет в виду. Я и раньше, можно сказать, знал это, но никогда не пытался это осознать. Свобода от личной истории казалась вещью довольно заманчивой, по крайней мере на интеллектуальном уровне. Но от нее веяло грозным и неуютным одиночеством. Я хотел было поделиться с ним своими ощущениями, но спохватился, поскольку во всей этой ситуации было что-то ужасно нелепое. Мне казалось, что просто смешно ввязываться в философский спор с невежественным старым индейцем, который в плане «интеллектуальной изощренности» явно уступает студенту университета. Однако он все же каким-то образом увел меня в сторону от первоначального намерения расспросить его о генеалогии. Чтобы вернуть разговор в нужное мне русло, я сказал:
– Почему мы вообще обо всем этом заговорили? Мне ведь, собственно, только нужно было заполнить опросную карту.
– Как почему? – ответил он. – Мы заговорили об этом, потому что я сказал: задавать вопросы о прошлом – занятие совершенно никчемное.
Говорил он очень твердо. Я понял, что ничего не добьюсь, и решил изменить тактику.
– Освобождение от личной истории присуще всем индейцам яки? – спросил я.
– Оно присуще мне.
– А как ты этому научился?
– Жизнь научила.
– Тебя учил отец?
– Нет. Скажем так, я научился этому сам. И сегодня я открою тебе эту тайну, так что ты уедешь отсюда не с пустыми руками.
Его голос перешел в торжественный шепот. Это актерство меня рассмешило. Я не мог не признать, что в этом он большой мастер. Мне даже пришло в голову, что я имею дело с прирожденным артистом.
– Давай, – покровительственным тоном сказал дон Хуан. – Записывай. Ты ведь без этого жить не можешь.
Я взглянул на него, и в моих глазах, должно быть, мелькнуло скрытое замешательство.
Он хлопнул себя по ляжкам и с довольным видом рассмеялся.